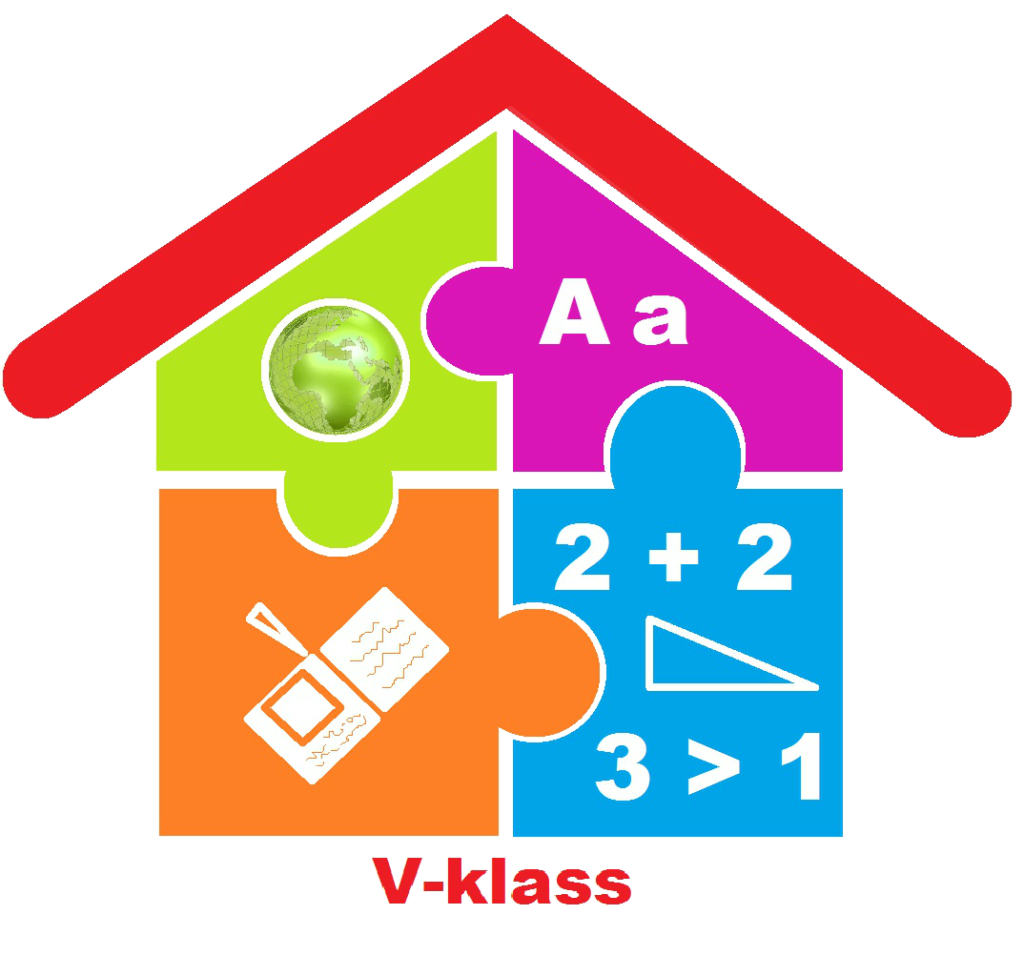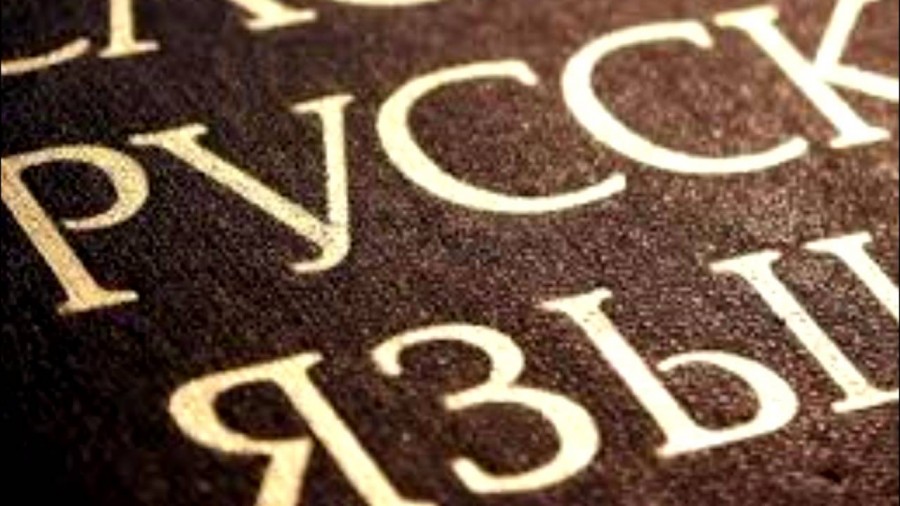Что будет если у людей пропадет русский язык
Волжский класс
Боковая колонка
Рубрики
Видео
Книжная полка
Малина для Админа
Боковая колонка
Опросы
Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ноя | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 класс. Учебник №1, упр. 5, с. 6
5. Прочитайте текст. О чём он? Напишите о том, что могло бы произойти, если бы наш язык исчез и люди лишились общения. Какое ещё значение слова «язык» вы знаете?
Мы привычно и незаметно для себя пользуемся языком, потому и ощутить его так же трудно, как почувствовать движение планеты под ногами. Язык кажется нам врождённым свойством, без которого не может существовать человек, как не может он жить без дыхания. От того мы и не замечаем той гигантской работы, которую выполняет язык в нашей жизни. Между тем, постоянно приходится разговаривать с кем-то, думать, читать, слушать, писать. И во всех случаях используется язык.
Представим себе невероятную ситуацию: язык исчез, и люди потеряли способность общаться друг с другом. Пусть не навсегда, а только на день – два. Что ожидает нас?
Представим себе невероятную ситуацию: язык исчез, и люди потеряли способность общаться друг с другом. Пусть не навсегда, а только на день – два. Что ожидает нас? Мгновенно мы потеряем возможность мыслить, способность обдумывать, планировать свои поступки, осуществлять их. Моментально прекратится совместная работа людей: остановятся фабрики, заводы, станет невозможной, да и совсем ненужной работа транспорта – всё равно без языка не сделать ни одного общего дела. Мы не сможем совершить сами и добиться от других элементарных, казалось бы, действий: купить хлеб, выбрать одежду, найти нужный дом. И уж, конечно, полностью лишим себя удовольствия прочесть интересную книгу, посмотреть фильм, встретиться и поговорить с друзьями.
Язык — это средство общения, государственный язык и средство межнационального общения.
Если мы заглянем в словарь, то увидим, что у слова «язык» множество значений. Мы будем говорить о языке как средстве передачи мыслей, знаний, чувств, как средстве общения между людьми с помощью слов, речи. Речь — это язык в действии, конкретное применение, использование языка.
Есть и другие языки, созданные для передачи мыслей, знаний, чувств. Свой язык имеет математика. Язык математики передает информацию с помощью специальных математических знаков. Язык формул позволяет выразить мысль сжато, кратко, точно.
Цветовая палитра — тоже своеобразный язык. Красный — цвет любви, радости; розовый — нежности; желтый — измены; черный — печали и т. д.
Существует, например, язык цветов, с помощью которого можно без слов передать свои чувства другому человеку. К примеру, красная роза — признание в любви; белые роза, гвоздика, лилия — знак чистоты; красная гвоздика — очарование, розовая — “никогда тебя не забуду”; желтая лилия — благодарность; амариллис — гордость; астра — любовь и нежность; фиалка — верность, добродетель; красный тюльпан — удача; ландыш — покорность и смирение; пион — сострадание и сочувствие; ирис — вера, надежда; сирень — красота и т. д.
Есть также язык жестов. Его можно считать международным, хотя и здесь есть некоторые отличия. Например, в Болгарии кивок означает отрицание — “нет”, а если человек поворачивает голову налево-направо, значит, он с вами согласен — “да”.
Имеются и другие “бессловесные языки” — язык музыки, язык танца, язык мимики и т. д.
Язык словесный универсален, с его помощью можно общаться даже на расстоянии, например по телефону, с помощью письменных сообщений, с помощью книг.
Итак, язык — важнейшее средство общения между людьми.
Если бы у людей не было языка, его стоило бы придумать
Я открываю глаза и не верю тому, что вижу… Куда я попала? Вокруг одна пустота и видны лишь отдаленные друг от друга лачуги и не менее одинокие люди… Стоит абсолютная тишина, нигде не слышны ни разговоры соседей, встретившихся на улице, ни говор торговцев, рекламирующих свой товар идущим мимо прохожим, ни веселые крики ребятишек, играющих во дворе, и только шелест осенних листьев нарушает это таинственное молчание…
Вдруг раздается страшный вопль, пронзающий меня до глубины души… Но кто кричал, и что случилось? Как помочь попавшим в беду людям? Ответа нет… Я закрываю глаза, теряясь в догадках, пытаясь не паниковать, и открываю их вновь… Опять тишина и спокойствие… Темнота… Тепло… Да ведь я у себя дома лежу в кровати! Это был всего лишь сон. Огромный поток мыслей не дает мне заснуть…
Перебирая сотни вариантов в голове, я понимаю причину того безмолвия… У людей в том мире, который мне приснился, нет языка! Почему же мне было так плохо? Чего я испугалась? А что бы все-таки было, если бы и на самом деле в нашем мире не было языка?
Итак, еще раз закрываю глаза и представляю этот мир. В этом безмолвном пространстве было бы тихо, но разве тишина это плохо? Кругом гармония! Никто не страдает от того, что раскалывается голова из-за постоянной болтовни. В нашем стремительном мире иногда так хочется посидеть в тишине. Пожалуй, это даже хорошо, что исчезли звуки речи. Как общаться с людьми, когда захочется поделиться мыслями, настроением?
А языки живописи, музыки и жестов! Они помогут нам отобразить свои идеи, чувства, станут способами самовыражения и общения. Все это так, но насколько будет достоверной информация, переданная не с помощью языка? Вспоминаю наши споры в классе о том, что изображено на картинах Врубеля, Чюрлениса. А звуки музыки, взывающие к нашим чувствам? Восприятие музыкальных произведений ведь тоже неоднозначное. И остались ли бы у нас, людей, чувства, если б не было языка? Скорее всего, нет. Не случайно Р.Г.Державин писал, что «язык всем знаниям и всей природе ключ». Великий русский поэт открывает нам простую истину о том, что с помощью языка человек постигает все, что его окружает, может объяснить все, что видит, слышит, о чем думает, мечтает, что в языке есть слово для любого предмета во Вселенной. И эта Вселенная начинает разговаривать с нами.
Если бы не было языка, то не существовали бы книги, газеты, почта, телефон, радио и многое другое! Люди просто не могли бы не только слушать новости и читать, но и разговаривать между собой! Они бы медленно умирали от одиночества… В лету канула бы и история, ведь, как известно, только благодаря письменности человек знает о событиях, которых никогда не видел, может сообщить о себе потомкам, с которыми никогда не поговорит. Только язык может связать людей, разделенных тысячами километров. Исключительно он способен учить человека с помощью литературы и одновременно доставлять ему удовольствие от прочтения. Не стоит забывать и о заповедях, которые тоже возникли благодаря существованию языка.
Скольким пришлось бы пожертвовать только из-за того, что нет языка! Кому-то это стоило бы жизни! Достаточно представить попавшего в беду человека, ведь без языка он не смог бы объяснить, что произошло, и не получил бы необходимой помощи! А сколько замечательных идей просто пропали бы впустую из-за того, что люди не смогли бы ими поделиться, так как только вместе мы можем чего-то добиться! Профессора не смогли бы рассказывать о своих открытиях и наблюдениях… А как же минуты счастья, когда ребенок говорит свои первые слова? Значит, и они исчезли бы?! А что тогда было бы с душой? Ведь человек даже не смог бы общаться с самим собой! Потерять свой внутренний мир? Не приоткрыть внутренний мир другого человека? Остаться без Пушкина, Лермонтова, Толстого? Не зажмуриваться от восторга, когда произносишь любимые строки?
Как все-таки здорово, что у людей есть язык! Ему одному подвластны холодная логика рассуждений и порывы горячего сердца. Именно язык объединяет биологический вид Homo sapiens в единое сообщество — человеческое. И если бы у людей не было языка, его стоило бы придумать. Я это знаю точно. Я с радостью открываю глаза навстречу новому дню, новым впечатлениям.
«Русскому языку ничего не угрожает, кроме агрессии в обществе»
Автор фото, Thinkstock
В день, когда в 886 городах мира проходит масштабная образовательная акция «тотальный диктант», на эти и другие вопросы читателей Русской службы Би-би-си отвечают главный редактор портала Грамота.Ру Владимир Пахомов и лингвист, старший научный сотрудник Института русского языка РАН Ирина Левонтина.
С экспертами беседовала корреспондент Русской службы Би-би-си Ксения Гогитидзе.
Большая часть вопросов касалась развития русского языка, озабоченности тем, что люди называют «избыточными заимствованиями» и упрощением языка. Как вы ответите тем, кто считает, что русский язык «деградирует»? И почему?
Владимир Пахомов: Носителям языка вообще свойственно оценивать любые изменения в нем негативно. Это было всегда, во все эпохи. Выдающийся русский языковед Александр Пешковский в начале XX века писал, что такого консерватизма, какой наблюдается по отношению к языку, мы не встречаем больше нигде.
С одной стороны, хорошо, что новые языковые факты вначале вызывают оборонительную реакцию, ведь это помогает сохранить устойчивость литературного языка.
Мечта о прошлом
С другой стороны, это приводит к тому, что хорошим мы считаем только русский язык прошлого, правильной всегда признаем речь отцов, дедов, прадедов, очень редко свою речь и уж ни в коем случае не речь детей.
В 1960-е годы об этом же писал Корней Чуковский в своей знаменитой книге о русском языке «Живой как жизнь»: » Л юди всегда уверены, что их дети, а особенно внуки калечат правильную русскую речь«.
Сложно представить нашу современную жизнь без этого слова, не правда ли?
Иными словами, любые изменения в языке мы склонны считать «порчей», «деградацией», «примитивизацией», каждое новое поколение слышит от старших, что оно уродует русский язык.
Поезда или поезды?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
Конец истории Подкаст
Ирина Левонтина: Подобные вопросы волнуют людей, потому что новые слова бросаются в глаза. И они кажутся вульгарными. Взрослому не нравится то, как говорит молодежь, при этом взрослые забывают, что они сами были молодыми и говорили не так, как родители.
Вредят ли избыточные заимствования или обогащают язык?
Владимир Пахомов: По отношению к иностранным словам языки ведут себя по-разному: одни закрываются от заимствований, другие их охотно принимают.
Когда хотят запретить иностранные слова, часто кивают на другие страны: вот, мол, они берегут свои языки. Но это все очень индивидуально.
Заимствования, конечно, обогащают язык, хотя когда их много, кажется, что от русского языка ничего не осталось.
Это вызывает вполне обоснованную тревогу за родной язык. Но не будем забывать, что языку нужно время на «инвентаризацию».
Язык решает сам
Многие слова появляются в языке, потому что появляются новые идеи и реалии. Так, с развитием технологий появилась необходимость в заимствовании новых слов, например «гаджет» или «девайс». Почему некоторые области жизни до сих пор отражены в русском языке не столь хорошо, например, новые семейные связи (связи вне брака, например), или сексуальная жизнь? Остается ли язык достаточно консервативным в различных областях жизни?
Владимир Пахомов: Язык отражает то, что есть в окружающем нас мире, и причины отсутствия слов для обозначения тех или иных реалий, связанных с семейной жизнью, сексуальными отношениями, половой идентификацией, надо искать не в самом языке.
Например, совместная жизнь вне брака не была прежде так распространена и уж точно не одобрялась в обществе, поэтому не было и соответствующего слова, было разве что грубоватое «сожитель».
Как только понадобилось как-то обозначить новую реальность, причем нейтральным термином, язык выкрутился, придумав новое значение давно существовавшему понятию «гражданский брак».
Язык не музей, а средство коммуникации
Ирина Левонтина: Дело не в том, откуда слово взялось, дело в том, насколько тонко язык может передать все оттенки смысла и все оттенки чувств.
Без новых слов, пришедших в русский язык после 90-х годов, было бы невозможно обсуждать новую действительность. Таких тонких различий очень много. Меняется система ценностей, а с ней меняются и наши представления о том, что хорошо, что плохо.
Очень часто можно слышать сейчас, что предлог используется порой не по назначению (например, в «переговоры по газу»). Какова вероятность, что подобное употребление станет нормой в будущем?
Лингвист Максим Кронгауз приводит очень интересный пример: в начале XX века говорили не «позвонить по телефону», а «позвонить в телефон».
Заимствуют ли другие языки у русского? Почему это происходит реже, чем наоборот? Какой иностранный язык оказал наиболее сильное влияние на русский?
Владимир Пахомов: Конечно, русский язык не только принимает новые слова, но и делится своими словами с другими языками. Движение это в основном идет не на Запад, а на Восток. В языках Средней Азии очень много заимствований из русского.
Автор фото, Светлана Холявчук/ТАСС
Акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года
Какие из новых на сегодняшний день слов останутся, а какие уйдут? Какими критериями должно обладать новое слово или понятие, чтобы оно вошло в русский язык? Есть ли официальный реестр? Оксфордский словарь, например, фиксирует новые слова, а есть ли такое с русским языком?
Владимир Пахомов: Практически это предсказать невозможно. Мы можем ожидать, что слово закрепится в языке, а оно возьмет и исчезнет. Или может воспринимать слово как однодневку, а оно освоится и прочно войдет в литературный язык. Очевидно, что слово останется, если останутся обозначаемые им предмет или явление.
Например, если дальнейшее развитие технологий полностью исключит возможность интернет-мошенничества, мы забудем слово «фишинг». Если на смену смартфонам, способным выполнять функции планшетов, придут какие-то новые устройства, из языка уйдет, даже не успев толком закрепиться, слово «фаблет». И так далее. И, конечно, больше шансов остаться у тех слов, которые заменяют длинные описательные конструкции. «Бильдредактор» вместо «заведующий отделом иллюстраций», конечно, имеет все шансы остаться в языке.
Как и почему меняются нормы языка? Под воздействием изменившейся действительности (появляются новые понятия, появляется и слово), а еще за счет чего? Приведите, пожалуйста, примеры
И если для этого нормы должны поменяться, они изменятся. Факторов изменения норм очень много. На норму литературного языка влияют в том числе диалекты, на русские слова влияют иноязычные, на письменную речь влияет устная, и наоборот.
Мы все время должны помнить, что мы свидетели лишь короткого этапа в многовековой истории языка, и многие процессы, происходящие на наших глазах, начались не сегодня и даже не вчера. Почему, например, говорят пять килограмм баклажан вместо пять килограммов баклажанов? Легче всего ответить: «Потому что все сейчас неграмотные и правил не знают».
Но давайте вспомним, что русскому языку не 30 лет и не 300, а гораздо больше.
В русском языке также происходят внутренние процессы, изменения, которые нельзя объяснить внеязыковыми причинами. Например, сейчас очень популярно говорить «то что», вместо «что». «Я рад, то что вы пришли».
Как повлиял на русский язык интернет?
Ирина Левонтина: Все процессы в языке стали происходить быстрее. В XIX веке на то, чтобы слово вошло в обиход, уходили месяцы и годы. А сейчас с новыми технологиями это происходит почти мгновенно. Многие слова проходят полный цикл развития за считанные недели или месяцы. То, что раньше занимало десятилетия, может занять теперь несколько месяцев.
Надо ли пытаться защищать язык институционально, законодательно, на государственном уровне? Как, например, это делают во Франции
Владимир Пахомов: Если мы употребляем слово защитить, то должны понимать: от кого или от чего защищать? На русский язык никто не нападает. Обычно под «защитой языка» понимают какие-то ограничения на использование иноязычных слов, слов нелитературных и так далее. Но вмешиваться в естественные языковые процессы, такие как изменение норм языка, заимствование слов и т. д., нельзя ни в коем случае.
Что угрожает русскому языку?
Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS
Ни угрозами, ни законами на язык повлиять нельзя. А вот уделяя ему больше времени в образовательных рамках, можно
А вот культуре нашей речи, на мой взгляд, угрожает чрезвычайно высокий уровень агрессии в общении. О чем бы мы ни спорили (в том числе и о самом языке), мы очень плохо умеем слушать и слышать собеседника. Не умеем вчитываться в текст, плохо понимаем смысл сказанного или написанного. Выдергиваем какие-то ключевые слова, на их основе создаем собственное впечатление о том, что нам сказали, и с этим собственным впечатлением начинаем яростно спорить.
Вот такое разобщение вместо общения, на мой взгляд, сейчас главная проблема говорящих по-русски. А вовсе не то, что кофе становится среднего рода.
Почему мы теряем русский язык?
В отношении языка Пушкина предпринята скрытая диверсия: русские слова искусственно подменяются и вытесняются иноязычными неологизмами, сленгом, жаргон падонкафф. Нет языка – нет народа, нет государства.
2 декабря президент провёл в Санкт-Петербурге совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Глава государства дал высокую оценку проделанной работе, в том числе в области укрепления позиций русского языка. Но много важного осталось и за дверями высокого собрания.
Обращаясь к собравшимся, президент сказал: «В последние годы для укрепления статуса русского языка и литературы многое сделано. Благодаря реализации системных мер в школах и вузах, активной поддержке чтения, экранизации классики и познавательных медиапроектов всё больше людей отдают предпочтение содержательному и, если будет позволено по‑русски так сказать, умному досугу».
Да, если учитывать все броские и яркие новомодные акции, красиво представленные СМИ, сделано, действительно, не мало. Но каков эффект проделанной работы?
29 ноября ТАСС опубликовал информацию об исследовании Яндекса, согласно которому, 18% слов из знаменитого толкового словаря русского языка В. И. Даля полностью вышли из употребления в России. А ведь это словарь именно живого, а не богемно-литературного или казённо-канцелярского русского языка.
Исследователи в течение года сравнивали запросы пользователей поисковой системы с далевской «кладезью русской словесности» и выяснили, что 18%, или около 40 тысяч слов из книги Владимира Ивановича, можно считать полностью вышедшими из употребления. Следовательно, в языковом отношении умершими. «В течение года люди ничего не искали с помощью этих слов и даже не спрашивали про их значение», – пишут авторы исследования.
Языки вымирают двумя путями: либо вместе с тотальным уничтожением их носителей, либо постепенно, пословесно вытесняясь другими звуко-речевыми конструкциями аналогичного смыслового содержания. Конечно, в ходе эволюции и прогресса языки претерпевают своеобразную санацию, самоочищаясь от реликтовых слов, словосочетаний, и грамматических форм. Но сорок тысяч слов – это не санация. Это тихое вырождение и сдача позиций, проходящие под мощнейшим внешним воздействием. Что это значит? А это значит, что мы постепенно перестаём не только говорить на языке наших отцов и дедов, но и перестаём мыслить как они.
Мало того, как мы можем говорить о Русском мире, бороться за русский язык на Украине и в других государствах, где он преследуется и изживается, если не можем сберечь его у себя дома?! Ведь язык – это больше чем просто звуки, наполненные смыслом. Мы привыкли разговаривать, не замечая самого процесса, как не замечаем процесса дыхания. Но язык – это особая, уникальная способность человеческого мозга и речевого аппарата. Ребёнок, постигая мир, обозначает всё вокруг словами. Далее в сознании складываются и закрепляются словесно-понятийные конструкции, на основе которых выстраивается определённый мыслительный процесс. А уже на него, как на стержень детской пирамидки нанизываются культурно-ценностные, общественные, политические и прочие составляющие нашей жизни.
Обманом и коварством проник в его твердыню, чтобы разрушить её изнутри. Именно поэтому вокруг языка сегодня идёт такая острая культурно-цивилизационная, политическая и даже военная борьба. Во многом через языковую составляющую и всё, что с ней связано, глобально конкурирующие между собой цивилизационные проекты борются за умы и сердца людей. Сегодня русский язык переживает небывалые агрессивные трансформации.
Доселе он трижды подвергался мощным потрясениям. После принятия христианства, петровского нашествия «иноязычия» и после Октябрьской революции. Но никогда прежде его так не деформировали, да еще сразу с трёх сторон.
Первая – уголовно-уличные жаргонизмы и лексика эпохи дикого капитализма, прочно вошедшие в наш язык, закрепившиеся в нём, мутировавшие и продолжающие своё тлетворное эволюционное развитие. Вторая – цифровая деформация, основными носителями которой выступают компьютерный сленг и так называемый «олбанский язык» в русском интернете. Он же – «жаргон падонкафф». Третья – поток иностранных неологизмов.
Эти малопонятные заимствования повсюду: «требуется мерчендайзер», «начал работу новый лоукостер», «воскресенье состоится дерби столичных команд». И так далее. Что это всё значит и зачем оно нужно в несравненно более богатом и мощном русском языке? Чтобы не казаться «совком»? Ведь куда круче звучит менеджер по клинингу, чем уборщица. Или фуд-корт, чем пищеблок. В результате всего этого русский язык меняется не естественным путём, не за счёт объективного вытеснения слов более сильными и глубокими по значению синонимами, а за счёт их подмены новомодными словами-паразитами. Под их воздействием исконный русский язык сжимается, а его смысловая основа размывается. Разрушается цельность и гармония языка.
Внутри русской народности – как социальной группы со стойкими внутренними связями, как единого исторического феномена – формируются языковые противоречия и выстраиваются внутриязыковые барьеры. Наш язык как эмоционально-информационный инструмент принадлежащий феномену русской народности скудеет, делая нас всех беднее и эмоционально, и информационно. О чём красноречиво свидетельствует исследование Яндекса.
Самый большой оборотный словарь языка из известных нам русских людей – у Пушкина, примерно 25000 лексем. Сегодня, среднестатистическому россиянину хватает для общения от 1000 до 6000 слов. Некоторым хватает и двухсот цензурных. Со связками и «специями» из мата этот лексикон вырастает до четырёхсот, а у отдельных мастеров бранной словесности до пятисот и более законченных буквенно-звуковых конструкций. Такое скудоречие приводит к тому, что значение очень многих слов из пушкинских стихотворений и особенно поэм россияне не понимают уже сегодня.
И размеры этого непонимания растут. Чем больше непонимание, тем тяжелее становится читать эти произведения. Эта растущая тяжесть отвращает от «нашего всего» – нашей классики. От того, что оставили нам в наследство столпы нашей культуры. Молодёжь активно переходит на комиксы, обрамлённые сленговым американизированным апгрейдом русского языка, который таковым в полном смысле этого слова уже не является.
Язык Пушкина, как и всей русской классики, очень образный, информационно и стилистически богатый, сочный и яркий. Как раз это мы и теряем. Образность, цветистость, витиеватую узорность русской речи наших предков. «Разговоры разговаривать» на Руси всегда считалось делом важным, интересным, душевным и полезным. Причём как в среде знатных господ, так и среди простонародья.
Вот характерный пример такого трепетного отношения к разговору как к важнейшей части жизненного процесса. 28 января 1881 года умер Ф. М. Достоевский. 1 февраля обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев пишет цесаревичу: «Похоронили сегодня Ф. М. Достоевского в Невской лавре. Грустно очень. Вечная ему память. Мне очень чувствительна потеря его: у меня для него был отведён тихий час, в субботу после всенощной, и он нередко ходил ко мне, и мы говорили долго и много за полночь. ».
Знание иностранных языков и мода на них в среде русского просвещённого барства ни в коей мере не уродовали язык их предков. Возьмите в руки «Войну и мир». Там всё чётко: целые огромные куски написаны по-французски с переводом в сносках и ярчайшее эпохальное повествование, представленное во всём богатстве и красоте русского языка. Одно не забивало и не вытесняло другого.
Салонный язык иностранного происхождения был своеобразным «платьем для коктейля», которое надевали, так сказать, по случаю, и не таскали его постоянно и куда не попадя. Иначе русское барство через 50 лет вообще не смогло бы общаться не только со своими крепостными, но и вообще с простонародьем. А этого у нас не было никогда. Даже выброшенная революционной волной за границу русская эмиграция продолжала ревностно и рьяно хранить и защищать русскую речь. На последние деньги издавать русскоязычную прессу, говорить на русском языке дома с детьми и внуками, поддерживать языковую культуру через православные приходы и общинные кружки.
Об этом особенно больно говорить в сегодняшней России, где мы, находясь не на враждебной русской культуре и языку чужбине, умудряемся так бездарно утрачивать языковое наследие предков. Сегодня очень многие деятели литературы, искусства и публицистики западного толка стараются убедить русских в том, что их язык приобрёл свой неповторимый колорит и информативность исключительно благодаря воздействию языков романо-германской группы. Это не так.
В фундаментальном труде известного советского и российского социолога Франца Шереги «Социология политики» читаем: «Этническую основу СССР преимущественно обеспечивала генетическая наследственность растворившегося в русском (и только в нём) «татаро-монгольского» этноса». Растворившийся этнос принёс в старославянский язык огромный пласт своего словарно-понятийного запаса, под воздействием которого сформировался вначале древнерусский, а затем великорусский язык.
Свидетельств, подтверждающих это утверждение, предостаточно. Огромное количество привычных и кажущихся исконно русскими слов – тюркско-татарского происхождения. Амбар, алтын, аршин, боярин, барин, балалайка, богатырь, барахло, бочка, дорога, веник, деньги, кутерьма, лошадь, навоз, пельмень, стакан, сарафан, скатерть, шаль, ямщик и многие, многие другие слова пришли к нам вместе с растворившимся «татаро-монгольским» этносом.
Подобное наследие мы находим и в топонимике. Взять хотя бы Москву, в которой так много «для сердца русского слилось!». Ряд названий районов в ней татарского происхождения. Так, дорогой и красиво звучащий ныне Балчуг по-тюркски означает «болото». Москва, как и Рим, строилась на семи холмах. Только возвышались они, в отличие от «вечного города», из лесистых болот. Также тюркское происхождение имеют: Кадаши, Полянка, Таганка, Ордынка, Хива и другие. Река Ока по-тюркски означает «река с течением». Похожую картину мы находим не только в Москве. Орёл – переводится как «дорога на подъём», Тула – «полный» и так далее. Шереги пишет: «Кстати, татары составляли большую часть населения Москвы даже в годы царствования Ивана Грозного».
Что касается Запада, то там тоже шел ассимиляционный процесс, правда несколько иного рода. Франц Шереги в своей «Социологии политики» пишет о еврейском ассимиляционном генетическом потенциале, доминировавшем в Центральной и Восточной Европе: «Они «поглощали» как готов, так и славян. Классическими представителями последних являются украинцы и поляки. Ошибочно думать, что рост численности евреев в мире происходил в результате высокой рождаемости; главную роль здесь играла ассимиляция евреями других этносов. В отношении, например, немцев ассимиляционный процесс приобрёл столь явный характер (даже немецкий язык евреи трансформировали в свой родной – идиш), что это в немалой степени способствовало геноциду евреев в годы фашизма».
Есть основания полагать, что и сам фюрер германского народа, при всём своём арийстве, был из числа этих самых ассимилированных.
В советских архивах сохранился наградной лист на его однофамильца – Семёна Константиновича Гитлера, еврея, красноармейца 73-го отдельного пулемётного батальона, Тираспольского укрепрайона. Как бедняге воевалось с такой фамилией, можно только предполагать.
Всё это к вопросу, кто и кого на свой манер переделал, ассимилировал, и кто у кого что позаимствовал.
Русский язык в процессе своего естественного обогащения и совершенствования, безусловно, пополнялся иностранными словами, но доминировавшего направления, тем более страны, в этом пополнении чётко выделить нельзя. Например, слово «чай» – китайского происхождения, «кастрюля» – французского, «гитара» – итальянского, «флаг» – голландского и так далее. Эта, образно говоря, «лепнина» никоим образом не меняла общей архитектуры русского языка, его логической семантики, поскольку процесс восприятия и адаптации в устоявшиеся речевые конструкции иностранных слов шел естественно и гармонично, без чьего бы то ни было целенаправленного насильственного воздействия.
Совсем другое дело мы наблюдаем сегодня. Огромное количество «общественных организаций», НПО, грантоедов, культурологов –«обновленцев», проплачиваемых блогеров, агентов иностранного бизнеса и рекламно-маркетинговой сферы – все они в большей или меньшей степени работают на уничтожение исконного русского языка. Каждый из них преследует свои корыстные цели (кому-то надо подсадить россиян на иностранные бренды, термины и слова, чтобы успешнее продавать заморские товары, кому-то хочется предстать в образе эпатажного культурного новатора), но результат один, и называется он – языковая диверсия.
Ключевую роль в этой диверсионно-подрывной работе, конечно, играют культурно-политические агенты влияния. Архитекторы Западного проекта и их подручные местного производства пытаются всеми способами: во-первых, сделать из россиян языковых «иванов, не помнящих родства»; во-вторых, путём разрушения языкового и культурного моста «отвязать» от Русского мира и его центра – России – бывших братьев по СССР и социалистическому лагерю.
Русский язык уже практически вычеркнут из обращения в Грузии, ряде среднеазиатских республик. Всячески дискриминируется в Прибалтике. Враждебное отношение к нему усиленно формируется на Украине. Нынешний президент Литвы, выпускница Ленинградского университета и диссертант Академии общественных наук при ЦК КПСС Даля Грибаускайте, канцлер Германии, бывший комсомольский функционер Ангела Меркель и многие другие русский прекрасно знают, но делают вид, что нет.
Увлекая свои народы подальше от русских, России и Русского мира. Все эти проблемы требуют немедленной, стратегической реакции. Не пиаровско-одноразовой, а каждодневной, высокопрофессиональной, концептуальной, глубокой и сетевой. Как внутри России (и прежде всего в ней), так и за её пределами. Ведь в тех же США – главном оплоте Западного проекта, в одном только штате Нью-Йорк проживает более 200 тысяч русскоязычных семей, а русский является одним из восьми официальных языков штата. Всего же русскоговорящих в мире, по самым скромным подсчётам, порядка 300 миллионов. И это мы не берём в расчёт китайцев, живущих в приграничных с нами районах, которых десятки миллионов и которые уже вполне сносно говорят по-русски. Сегодня наш язык находится в восходящем тренде. Интерес и внимание к нему растут.
Во-первых, потому что Россия впервые со времён СССР заявила о себе как об одном из мировых лидеров, проводящем самостоятельную политику и способном отстаивать свои интересы. А лидеры всегда вызывают интерес и инстинктивное желание познакомиться поближе. Возможно, и разделить его позицию. Эта тенденция наблюдается от стран БРИКС до Афганистана и даже Пакистана.
Во-вторых, несмотря на все санкции, а возможно, и благодаря им, наша страна становится всё более притягательной с экономической точки зрения. Не только в плане трудовой миграции, но и в плане бизнес-партнёрства. Российские рынки и производственная кооперация сейчас активно замещаются теми, кто не участвует в санкциях и смотрит на наш экономический потенциал трезвым взглядом.
Во многих частях планеты мы строим. Многих учим у себя. Не в последнюю очередь и благодаря этому русский язык продолжает своё распространение по миру. Это надо всячески поддерживать и развивать, не забывая про отчий дом и его коренных носителей – россиян. У нас в руках настоящая языковая Жар-птица, и нельзя допустить, чтобы она от нас улетела, оставив на память лишь одно светящееся перо.