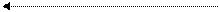Что вам известно об эволюции понятия стиль
Три модели понятия «стиль»



Следует заметить, что содержание термина стиль претерпело в российском языкознании значительные изменения. И сейчас мы можем говорить о трех моделях понятия «стиль».
1. Наиболее ранним в России было восходящее к античным риторикам трехчленное представление стиляв русских риториках XVII – XVIII вв., в теории и практике М.В. Ломоносова1. В чем суть теории «трех штилей» М.В. Ломоносова? Он разделил все языковые средства на три штиля (три ситуации применения) на основе определенного критерия – духовного, выделив высокий, средний и низкий штили (стили).
В область высокого штиля ученый отнес всё, что касалось вечной жизни – жизни духа, – и провел четкую границу, отделяющую высокий стиль от бытового. Этим Ломоносов способствовал ограждению церковнославянских (словенских) слов (см. лекцию № 5, § 5.2), которыми говорят о высоких материях, от искажения и переделок, сохранив их высокое, чистое значение. К высокому штилю, реализуемому в таких жанрах, как героические поэмы, оды, «прозаические речи о важных материях», были отнесены церковнославянские элементы типа благословенье, отверзаю, благосеннолиственное древо, исход и слова, общие для церковнославянского и русского языка (страдание, беззаконие, грех). Вот фрагмент «Евангелия от Марка», относящийся к высокому штилю:
Глас вопиющего в пустыне: уготовайте путь Господень, правы творите стези его. Бысть Иоанн крестяй в пустыни, и проповедая крещение покаяния, во отпущение грехов. И исхождаше к нему вся иудейская страна, и иерусалимляне, и крещахуся вси во Иордане реце от него, исповедающе грехи своя.
К среднему штилюМ.В. Ломоносов отнес слова, общие для церковнославянского и русского языков, использование которых должно быть контролируемо и «сбалансировано» таким образом, чтобы, с одной стороны, «слог не казался надутым», а с другой – «чтобы не опуститься в подлость». Средний штиль, призванный уравновесить духовное и материальное, предназначен был для театральных сочинений, элегий, дружеских писем, эклог (стихотворное повествование о сельском быте), для «дел достопамятных и учений благородных». Таково, скажем, стихотворение В.А. Жуковского «Сельское кладбище»:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.
В туманном сумраке окрестность исчезает…
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
К языковым средствам низкого штиля М.В. Ломоносов отнес простонародные (низкие) слова, включая разговорно-бытовые и просторечные элементы. Их, по мнению учёного, можно было использовать в «обыкновенных делах», комедиях, песнях, эпиграммах, дружеских письмах – в тех жанрах, где в большей степени преобладает «материальное, земное, мирское» – чувственно-эмоциональное. Примером данного стиля является стихотворение Дениса Давыдова:
Я люблю кровавый бой, / Я рожден для службы царской!/
Сабля, водка, конь гусарской, / С вами век мне золотой!/
Я люблю кровавый бой, / Я рожден для службы царской!/
За тебя на черта рад, / Наша матушка-Россия!/
Пусть французишки гнилые / К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад, / Наша матушка-Россия!
Таким образом, благодаря теории трех штилей М.В. Ломоносова была выявлена оппозиция возвышенных и сниженных, разговорных языковых средств на фоне нейтральных(рис. 7.1):
Ручонка Рука Длань
Низкая окраска 0 Высокая окраска
Рис. 7.1. Модель трёх штилей М.В. Ломоносова
2. Позднее формируется так называемая традиционная модель стиля, на основе которой выделяется оппозиция книжный стиль – разговорный стиль на фоне нейтрального (рис. 7.2). Основой формирования этой модели также послужила теория трех штилей М.В. Ломоносова. Книжная стилевая окраска, которая до сих пор сохраняется в письменных текстах, относящихся к специальной или художественной литературе, обусловлена в первую очередь церковнославянскими элементами. Разговорный же стиль формировался на основе устной разговорной речи низов городского населения и просторечия.
Движок Мотор Двигатель
Разговорная окраска 0 Книжная окраска
Рис. 7.2. Традиционная модель стиля
Близка к традиционной и экспрессивная модель стиля, в рамках которой рассматриваются средства языка с повышением экспрессивно-стилисти-ческой тональности или её понижением на фоне нейтральной «основы». Экспрессивная модель позволяет точнее описать, конкретизировать окраску слова. Например, положительная экспрессивно-стилистическая тональность может включать в себя такие характеристики языковых средств, как торжественная (стяг, дар), возвышенная (побоище, веровать), официальная (самоустранение, нижеподписавшиеся). Отрицательная экспрессивно-стилистическая тональность тоже может быть конкретизирована, например: фамильярная (головастый, человечишко), грубая (солдатня, скулёж), дружеская (братуха, дружище) и т.п. На лучах рис. 7.3, иллюстрирующего экспрессивную модель, можно было бы указать все перечисленные выше позиции.






Отрицательная окраска 0 Положительная окраска
Рис. 7.3. Экспрессивная модель стиля
Экспрессивная и традиционная модели стали, с одной стороны, основой для формирования базы стилистических помет, используемых в некоторых статьях толковых словарей.
С другой стороны, они определили два основных аспекта стилистической характеристики языкового явления: экспрессивно-стилистическая окраска и функционально-стилистическая принадлежность. При этом рассмотренные модели позволяют нам понять, как именно выделяют стилистически окрашенные языковые средства. Это возможно только на фоне нейтральных языковых средств, которые не являются характерными для определенного функционального стиля (научного, обиходно-разговорного и др.) и не несут вне контекста эмоционально-экспрессивной окрашенности. Стилистически нейтральные языковые ресурсы являются нулевой осью (рис. 7.3), а отсутствие ярко выраженной модальности (оценочности, экспрессивности, субъективности) делает их общеупотребительными во всех ситуациях речевого общения.
В связи с этим следует заметить, что, хотя на рис. 7.2 и 7.3 приведены примеры нейтральных и стилистически окрашенных лексических единиц, сказанное выше относится и к языковым единицам других уровней (подробнее об этом см. в § 7.3.).
3. С середины XX в. вследствие активного развития функциональной стилистики центральным становится понимание стиля как функционального.
Функциональный стиль– этообщественно осознанная, исторически сложившаяся, объединенная определенным функциональным назначением и закрепленная традицией за той или иной сферой социальной жизни система языковых единиц всех уровней и способов их отбора, сочетания и употребления. Таким образом, функциональным стиль является характеристикой и показателем определенной социальной ситуации. Так, например, неформальное общение (с друзьями, родственниками, соседями, попутчиками и т. д.) обслуживается обиходно-разговорным стилем, а в ситуациях формального речевого взаимодействия используются книжные стили.
Объективно прослеживается связь между функциональными стилями языка и формами общественного сознания. Научный стиль соотносится, естественно, с наукой, публицистический – в первую очередь с политикой и моралью, официально-деловой – с правом (подробнее о каждом из этих функциональных стилей см. лекции №№ 8, 9).
Помимо традиционно признанных трех книжных стилей, особую позицию занимают, претендуя на функционально-стилистическую самостоятельность, следующие разновидности:
· художественный стиль, в рамках которого используются языковые средства разных стилей, в том числе и находящиеся за пределами литературного языка;
· церковно-религиозный (клерикальный) стиль, который прежде официальная наука игнорировала по политическим причинам;
· производственно-технический стиль, соединяющий в себе черты научного, официально-делового стилей, использующий профессиональную лексику;
· публичная речь, которая в зависимости от ситуации может в себе соединять особенности разных стилей. Так, например, лекция по теме «Стилистика», прочитанная в студенческой аудитории, будет включать в себя элементы научного, обиходно-разговорного, публицистического и даже художественного стилей.
Один из существующих вариантов системы функциональных стилей представлен на рис. 7.4.
 |  |
| Обиходно-разговорный стиль | 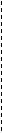 Книжные стили Книжные стили | |
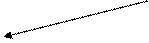 |   | |
| Официально-деловой | Научный | Публицистический |

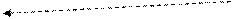
| Производственно-технический * | Публичная речь | Церковно-религиозный | Художественный |
Рис. 7.4. Система функциональных стилей современного русского литературного языка
В связи с этим следует заметить, что большинство лингвистов считает производственно-технический стиль лишь одним из подстилей научного стиля (см., например, лекцию № 8, § 8.4).
Каждый стиль закреплен за той или иной наиболее общей сферой социальной жизни, каждую из которых можно, условно говоря, разделить на более мелкие сферы с соответствующими им подстилями – разновидностями функционального стиля. Подстили более точно, нежели стиль, соответствуют определенной коммуникативной ситуации и обладают как общестилевыми, так и частными характерными чертами. При этом в каждом стиле можно выделить так называемый «ядерный» подстиль, который является фундаментальным, образцовым для стиля. Например, в рамках научного стиля это собственно научный (академический) подстиль, а другие подстили менее жёстко соответствуют основным характеристикам данного стиля: они не столь академичны и даже могут, обладать некоторыми чертами, свойственными другим стилям.
И всё же в конкретной ситуации нам приходится иметь дело не со стилями и не с подстилями, а с речевыми жанрами – конкретными типами текстов, обладающими функционально-стилевой спецификой и стереотипной композиционно-речевой структурой. Нужно заметить, что существование большого количества речевых жанров предопределено именно многообразием коммуникативных ситуаций. Можно по-разному систематизировать и классифицировать речевые жанры: с точки зрения сферы общения, целевой установки, стереотипности текста и пр. Однако в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» особенно важна, востребована классификация жанров по принципу первичности и вторичности.
Первичные жанры представляют собой непосредственный, «оформленный» речью результат практической деятельности автора текста: его наблюдения, исследования, творчества и пр. Например, к первичным жанрам научно-учебного подстиля научного стиля относятся учебник, учебное пособие, учебная лекция, методические указания.
Вторичные жанры являются результатом переработки (обобщения, интерпретации) других, первичных текстов. В составе того же научно-учебного подстиля можно выделить такие вторичные жанры, как реферат, конспект, отчет по лабораторной работе и т. п. Например, на основе текста дипломного сочинения (первичный текст) студент составляет текст своего выступления перед членами государственной комиссии. Разумеется, вторичный текст составляется и на базе чужого первичного текста.
► С чем, с Вашей точки зрения, связано столь позднее (конец XIX века) формирование в России системы самостоятельных функциональных стилей. Найдите исторические примеры того, как развивался любой из функциональных стилей.
Аналитика культурологии
Электронное научное издание
ПОНЯТИЕ «СТИЛЬ»: ГЕНЕЗИС И КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
стиль, функционирование термина «стиль», «семейные сходства»
Аннотация:
В статье раскрывается понятие «стиль», история возникновения данного термина и первоначальная практикаего использования в период античности. Отражена специфика философского осмысления этого понятия в эпоху Просвещения в XIX-XX столетиях. Рассмотрено функционирование термина «стиль» в рамках искусствоведческого, лингвистического, науковедческого, психологического и социологического контекстов. Отмечено контекстуальное разнообразие типовых признаков понятия «стиль», что позволяет утверждать невозможность однозначного обобщенного его определения и использование при определении данного термина подхода, названного Л. Витгенштейном «семейными сходствами».
Текст статьи:
Сегодня трудно найти такую область человеческого знания и деятельности, в которой бы не использовалось слово «стиль». Этот термин активно используется искусствоведами и лингвистами, культурологами и модельерами, философами и дизайнерами, психологами и архитекторами, социологами и художниками. Он значится в «теоретическом арсенале» как ученого-естественника, так и обществоведа-гуманитария. С полным основанием можно сказать, что термин приобрел междисциплинарный (межотраслевой) характер, и проблема его функционирования в этом статусе уже является предметом специального рассмотрения [1].
История возникновение термина «стиль» и первоначальная практика его использования уходит своими корнями в античность. Это слово «этимологически происходит от stylus, заостренного прутика, используемого для письма на воске греками и римлянами. Здесь смысл метафоричен; так же как мы говорим о вдохновляющем или анонимном пере, о быстрой или смелой руке. Стиль человека первоначально был его характерной, особенной манерой письма: возможно сначала с акцентом на форму его письма, его почерка, позже, конечно, с отсылкой скорее к его выбору и комбинации слов» [2, c.3].
Аристотель использует этот термин в «Поэтике» и «Риторике», в третьей книге которой под стилем понимается способ словесного выражения предметов в правильно составленной речи о них. Уже здесь Аристотель попытался выделить группу взаимодействующих, синонимичных со стилем понятий – способ, форма, манера [3].
Вряд ли можно восстановить всю историю того процесса, в ходе которого термин «стиль» путем расширения и изменения своего значения распространился на всю сферу искусства. Но уже начиная с Нового времени, он широко использовуетсяся в теории языка и литературы, искусствоведении и философской антропологии. В эпоху Просвещения предпринимаются первые попытки философского осмысления этого понятия, установления его более четкого понятийного содержания путем обсуждения в рамках уже выделенной Аристотелем «категориальной сетки»: способ – форма – манера. Здесь следует сказать о И.В. Гёте (1749-1832), который в статье «Простое подражание природе, манера, стиль» (1788) выделяет три ступени развития художественного творчества, обозначение которых вынесено в название статьи. Стиль знаменует собой высшую ступень развития творческой индивидуальности. Если простое подражание природе позволяет охватить объективные свойства предмета, познать их, то манера представляет собой «середину между простым подражанием и стилем». Она знаменует индивидуальную свободу художника, возможность, оперируя формами, в субъективных образах отображать эти свойства. Стиль же – это «познание сущности вещей». В эстетике немецкой классической философии понятие «стиль» приобретает более четкие категориальные ориентиры. Например, Ф.В. Шеллинг (1775-1854) отмечал необходимую связь стиля со способом. Он указывал, что относительно мышления эти понятия равнозначно выражают субъективные особенности творческой личности [4]. Г.В. Гегель (1770-1831) противопоставлял стиль манере, подчеркивая, что манера есть «внешняя сторона формы», а стиль объективен, хотя и отражает своеобразие человека. Стиль объективен именно потому, что он связан с предметами и вытекающими из этих предметов заключениями. Манера случайна, стиль же закономерен [5].
И.И. Винкельманн (1717-1768) в работе «Истории искусства древности» (1763) впервые использует «стиль» в качестве одного из основных понятий u1080 искусствоведческого анализа. Вся история древнегреческого искусства подразделялась на три периода по стилевым признакам: «строгий стиль», «высокий стиль», «изящный стиль». Считая древнегреческое искусство непреходящим образцом для всех времен и народов, он вводит понятие «идеального стиля», к которому должны стремиться все художники.
В конце XIX – начале ХХ в. понятие «стиль» все больше используется для характеристики отдельных этапов эволюции художественной культуры: благодаря работам таких искусствоведов как Г. Вёльфлин (1864-1945) и А. Ригль (1858-1905) это понятие становится основным принципом исторического изучения искусств, развитие которых понималось как процесс закономерного чередования или смены стилей. Но в начале ХХ в. идея «исторического стиля» получает «второе дыхание», прежде всего благодаря творчеству Освальда Шпенглера (1880-1936). В 1919 г. выходит в свет первый том его книги «Закат Европы», основная тема которой состоит в обосновании тезиса, что «у истории нет всеобщей логики, она исчерпывается лишь рождением и умиранием культурных организмов» [6, c.13]. Что обычно называют всемирной историей человечества, является на самом деле, по мнению Шпенглера, историей процесса рождения, юности, зрелости, старости, и, наконец, гибели восьми замкнутых в себе и неповторимых великих культур: египетской, индийской, вавилонской, китайской, греко-римской (аполлоновской), византийско-арабской, культуры майя и ныне существующей западноевропейской (фаустовской). Сравнение разных культур возможно, по Шпенглеру, на основании стилевых характеристик культуры. История каждой из восьми культур представляла собой имманентное развертывание культуры из ее «прасимвола». Этап зарождения культуры заканчивается формированием свойственного только ей уникального стиля. «Поэтому в общей исторической картине культуры может существовать только один стиль, а именно стиль этой культуры» [7, c. 306]. Но имеется некоторое сродство стилей разных культур, которые «…все, в качестве организмов одного и того же вида, обладают историей жизни родственных структур» [7, c. 307]. Именно это и есть, согласно Шпенглеру, история «больших стилей». Уже принятые в искусствоведении обозначения «романский стиль», «готика», «барокко», «рококо», «ампир» являются не самостоятельными стилями, а отдельными фазами стиля западноевропейской культуры. Что же такое «стиль культуры» у Шпенглера? В тексте книги нет прямого ответа на этот вопрос. Поскольку образно-поэтическому языку Шпенглера несвойственны точные дефиниции, то использование термина «стиль» сопровождается целым набором метафор: «стиль есть судьба», «стиль как почерк», «стиль – совокупность форм», «стиль – непреднамеренное и неизбежное устремление всякой деятельности», «стиль – душа культуры».
Стиль, конечно, связан с художественным творчеством, но эту связь Шпенглер трактует очень своеобразно. «Стиль есть судьба. Он дается, но его нельзя приобрести. Сознательный, намеренный, надуманный стиль есть ложный стиль …» [7, c. 298]. Стиль есть выражение бессознательного душевного элемента, хотя стиль и возникает благодаря человеческой воле, художественному стремлению к символизации. Но художник становится великим не потому, что он порождает стиль, а потому что он интуитивно чувствует душу культуры и становится выразителем только ей свойственного стиля.
«Стили не следуют друг за другом, подобно волнам или биению пульса. Они не имеют никакого отношения к личности отдельных художников, к их воле и сознанию. Наоборот, стиль в качестве посредствующей стихии априорно лежит в основе художественной индивидуальности» [7, c. 306]. По-этому именно стиль дает понимание бытия человека, его индивидуальности. «…Стиль есть постоянно новое переживание человека, полное выражение мгновенных свойств его становления, его «alter ego» и отражение в зеркале» [7, c. 306].
Для ответа на поставленный выше вопрос есть смысл обратиться к обобщающей характеристике Альфреда Крёбера (1876-1960), одного из лучших исследователей стилевых определений культуры.
Шпенглеровское исследование «морфологии мировых культур» Крёбер называет «…попыткой выразить стиль культуры. Он является характеристикой всюду проникающей формы (It is characterization of pervasive form), образа (Gestalt). Тотальная форма, вычленяемая не последовательным переходом от предмета к предмету, а как целое, постигаемое в качестве интеллектуальной целостности наподобие слитка после отливки». Его окончательное заключение о возможности использования понятия «стиль» в характеристике культуры является положительным. «Стиль является нитью культуры или цивилизации: последовательный, самосогласующийся способ выражения некоторого поведения или реализации некоторых видов действий. К тому же этот способ избирателен: должна существовать альтернатива выбора, хотя фактически она может быть и не реализована. Где правит принуждение, физическая или физиологическая необходимость, там нет места для стиля» [2, c. 150]. Понятие «стиль» используется при характеристике художественного творчества в диапазоне от явлений эпохальных до специфики отдельных произведений. Но в литературе мы не находим единой точки зрения по вопросу о содержательных элементах этого понятия. Чаще всего стиль трактуется как «устойчивая целостность или общность образной системы, средств художественной выразительности и образных приемов, характеризующих произведение искусства или совокупность произведений. Стилем также называется система признаков, по которым такая общность может быть опознана. В современной теории стиля существуют различные мнения об объеме понятия стиль: с ним иногда связывают весь комплекс явлений содержания и формы, но чаще ограничивают его значение структурой образа и художественной формой» [8, c. 514].
Прямо противоположную точку зрения высказывает Ю.Б. Борев: «Стиль в искусстве – это не форма, не содержание, не даже их единство в произведении. Стиль – набор “генов” культуры (духовных принципов построения произведения, отбора и сопряжения языковых единиц), обусловливающий тип культурной целостности. Стиль как единая порождающая программа живет в каждой клеточке художественного организма и определяет структуру каждой клеточки и закон их сопряжения в целое. Стиль – императивный приказ целого, повелевающий каждым элементом произведения» [9, c. 136]. Конечно, использование автором биологической и программистской терминологии вряд ли способствует прояснению существа дела, но главным здесь является стремление подчеркнуть определяющую роль идейного замысла в формировании стиля произведения. Свою точку зрения Ю.Б. Борев подкрепляет анализом пушкинского «Медного всадника», основная идея которого, по его мнению, состоит в выяснении вопроса о соотношении истории и современности, личности и государственности, счастья и законности. «Эта идея – ядро концепции поэмы, определяющее ее поэтику и стиль, в котором оказываются гармонически объеденены одическое (представляющие Петра и государственность) и обыденное (представляющие Евгения и личностность) начала» [9, c. 137]. Решению этой задачи служит отбор лексического материала и других выразительных средств, так что с полным правом можно сказать, что стиль обусловливает стилистику.
Обращаясь к проблеме определения понятия «художественный стиль», А.Ф. Лосев и М.А. ТахоГоди специально отмечают, что не считают возможным использовать при его характеристике термин «идея» в виду одной из его трактовок как обобщенного содержания. Стиль не может сводиться ни к форме, ни к содержанию художественного произведения, ни даже к их единству. «Художественный стиль есть принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, которые, однако, имманентны самим художественным структурам произведения» [10, c. 38].
Интерес представляет попытка В.Г. Власова «восстановить» в своих правах концепцию «исторических художественных стилей». Он исходит из того, что художественный стиль не может выступать фактором, однозначно характеризующим историческую эпоху. «Любая историческая эпоха слишком сложна и противоречива для того, чтобы найти свое отражение только в одном художественном стиле». Вместо термина «стиль эпохи» он предпочитает употреблять термин «исторический стиль», подчеркивая, что «таких «исторических стилей» в каждую эпоху, как правило, бывает несколько и каждый из них по-своему выражает те или иные тенденции развития искусства». Каждый «исторический стиль» складывается из борьбы, взаимодействия различных «художественных направлений».
«Понятие «стиля» – настаивает В.Г. Власов – применимо только к художественному творчеству. … Использование слова «стиль» в быту или в иных, нехудожественных сферах человеческой деятельности возможно лишь в качестве метафоры» [11, c. 546]. Но вряд ли допустимо игнорировать практику использования этого термина в других областях научного знания.
В ХХ в. проблема стиля интенсивно рассматривается в сфере лингвистики, а также в социолингвистических исследованиях, где анализируются стилевые особенности речевого общения в различных социальных контекстах с точки зрения их реализации в социальных действиях индивида и группы. В западной литературе этот аспект функционирования термина «стиль» рассматривается в рамках «дискурсивного анализа», где социальный контекст предстает в различных измерениях: межличностном, социоструктурном, идеологическом, прагматическом [12, p. 14-17]. Из разнообразных типов научных контекстов термин «стиль» прочно утвердился и в психологии.
Таким образом, поле деятельности термина «стиль» становится очень широким. Нам представляется сомнительной сама возможность конструирования чистого, универсального понятия «стиль». Даже в истории искусств оказывается невозможным четко очертить границы господствующего художественного стиля не только во временных рамках, но и в наборе существенных признаков. Выход за рамки искусствоведческого контекста и рассмотрение функционирования термина «стиль» в рамках лингвистического, науковедческого, психологического, социологического контекстов показывает, что набор этих признаков существенно изменяется.
Контекстуальное разнообразие типовых признаков понятия «стиль», невозможность однозначного обобщенного его определения позволяет нам утверждать, что мы здесь имеем ситуацию, аналогичную описанной Л. Витгенштейном при рассмотрении термина «игра». Рассматривая процессы, которые называются “играми”, он подчеркивает, что мы имеем здесь «сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом» [13, c. 111]. Эти подобия Л. Витгенштейн называет «семейными сходствами». Аналогичная ситуация складывается в современном мире, и с термином «стиль». Если понятие не удается четко ограничить, то остается, подчеркивает Л. Витгенштейн, только один способ его введения: путём примеров. При этом «приведение примеров здесь не косвенное средство пояснения, – к которому мы прибегаем за неимением лучшего. Ведь любое общее определение тоже может быть неверно понято» [13, c. 113]. Но использование термина «стиль» в культурологическом контексте имеет один существенный общий признак: стиль всегда связан с выбором. На это неоднократно указывает Л.Г. Ионин: «…Говорить о стиле можно только тогда, когда есть выбор»; «когда выбора нет, мы имеем дело или с традицией, или с каноном, когда есть выбор, можно говорить о стиле» [14, c. 159-160]. А. Крёбер также отмечает, что стиль возможен только тогда, когда существует «альтернатива выбора» [2, c. 150]. Стиль в отношении человека как носителя культуры – это всегда выбор. Стилевой выбор, стилетворчество – это возможность человека по созданию, конструированию своей собственной субъективности и вместе с тем возможность осознания самим себя как творца, субъекта культуры.
1. Павловская О.Е. Проблема функционирования межсистемного термина стиль в гуманитарных науках // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Приложение. Ростов н/Д, 2004. № 2.
2. Kroeber A.L. Style and civilizations. New York: Cornell, 1957.
3. Аристотель. Риторика // Античные риторики. М., 1978.
4. Шеллинг Ф.В. Философия искусств / Пер. с нем. П.С. СПб., 1996.
5. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Т 1. М., 1968.
6. Драч Г.В. «Морфология культуры» Освальда Шпенглера // Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н/Д, 1998.
7. Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н /Д, 1998.
8. Недошивин Г.А., Чёрных А.М., Чудакова М.О., Кантор А.М. Стиль в литературе и искусстве //Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1976. Т. 24.
9. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. М, 2002.
10. Лосев А.Ф., Тахо-Годи М.А. Эстетика природы (природа и ее стилевые функции у Р. Роллана). Киев, 1998.
11. Власов В.Г. Стиль, стилизация // Стили в искусстве. Словарь. СПб, 1998.
12. См.: Styles of discourse / Ed. by N. Coupland. London; New York; Sydney, 1988.
13. Витгенштейн Л. Философские работы. Часть I. М., 1994.
14. Ионин Л. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.