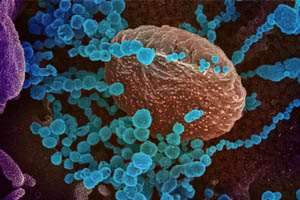что значит стабильное состояние пациента
Состояния, при которых оказывается первая помощь

Понятие «экстремальные состояния» не следует смешивать с понятием «терминальные состояния». Главной отличительной чертой терминальных состояний является их необратимость без специальных экстренных медицинских мер помощи, в то время как многие формы экстремальных состояний могут быть самостоятельно обратимы. Даже в случаях неблагоприятного исхода в процессе развития экстремальных состояний отмечается, как правило, более или менее продолжительный период улучшения состояния организма — за счет включения многочисленных компенсаторно-приспособительных механизмов. Для терминальных состояний характерно прогрессирующее угнетение функций и угасание жизни.
К экстремальным состояниям относятся шок, коллапс, кома.
Экстремальные состояния и причины их возникновения
Шок может возникнуть под действием самых различных по характеру раздражителей, но отличающихся необычайной, чрезмерной силой — экстремальных. Причиной шока могут быть: тяжелая механическая травма, обширные ожоги II и III степени, попадание в организм гетерогенной или несовместимой по отдельным факторам крови, мощное действие ионизирующей радиации, электротравма, тяжелая психическая травма и т.п.
Всевозможные неблагоприятные воздействия на организм, предшествующие шокогенному раздражителю, действующие вместе с ним или после него облегчает возникновение шока и утяжеляют уже развившийся шок. К числу таких дополнительных факторов относятся кровопотеря, перегревание или переохлаждение организма, длительная гиподинамия, голодание, переутомление, нервное перенапряжение, психическая травма и даже такие, казалось бы, индеферентные раздражители как яркий свет, громкий разговор и т.п.
В зависимости от причины, вызывающей шок, выделяют следующие его виды: травматический, операционный или хирургический, ожоговый, анафилактический, гемотрансфузионный, кардиогенный, электрический, лучевой, психогенный или психический и др. Близок к шоку краш-синдром или синдром раздавливания.
Коллапс (лат. collaps — крах, падение) — близкий к шоку патологический процесс, клиническая картина позднего этапа которого очень сходна с картиной глубокого шока. Это острая сосудистая недостаточность, обусловленная падением тонуса артериол и вен и резким снижением артериального и венозного давления. Нарушения в ЦНС развиваются, в отличие от шока, вторично, вследствие сосудисто-сердечной недостаточности.
Кома (от греч. кота — сон, дремота) — бессознательное состояние, связанное с нарушением функции коры больших полушарий головного мозга, с расстройством рефлекторной деятельности и жизненно важных функций организма (кровообращения, дыхания, метаболизма). Отличительной особенностью любой комы является полная и стойкая утрата сознания. Кома может быть молниеносной, характеризующейся внезапной потерей сознания и постепенно развивающейся.
Терминальные состояния: признаки и симптомы
Терминальные состояния это крайне тяжелые и весьма опасные для жизни степени угнетения жизненных функций организма. К этому надо добавить, что тяжелые стадии шока III—IV степени также весьма близки к терминальным состояниям.
Причины терминальных состояний: острая кровопотеря, травматический и операционный шок, отравление, асфиксия, коллапс, тяжелая острая интоксикация (сепсис, перитонит и др.), нарушения коронарного кровообращения, электротравма и т. д.
Преагональное состояние характеризуется дезинтеграцией функций организма, критическим снижением артериального давления, нарушениями сознания различной степени выраженности, нарушениями дыхания.
Вслед за преагональным состоянием развивается терминальная пауза – состояние, продолжающееся 1-4 минуты: дыхание прекращается, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, зрачки расширяются.
По окончании терминальной паузы развивается агония. При агонии наблюдается: отсутствие сознания и рефлексов, резкая бледность кожных покровов, синюха в области конечностей, пульс не определяется или ощутим лишь на сонных артериях, тоны сердца приглушены. Одним из клинических признаков агонии является агональное дыхание с характерными редкими, короткими, глубокими судорожными дыхательными движениями, иногда с участием скелетных мышц.
Основными признаками клинической смерти являются:
Дополнительными признаками клинической смерти являются:
4. Трупные изменения:
Констатация смерти человека наступает при биологической смерти человека (необратимой гибели человека) или при смерти мозга.
Что значит стабильное состояние пациента
Проблема поражения легких при вирусной инфекции, вызванной COVID-19 является вызовом для всего медицинского сообщества, и особенно для врачей анестезиологов-реаниматологов. Связано это с тем, что больные, нуждающиеся в реанимационной помощи, по поводу развивающейся дыхательной недостаточности обладают целым рядом специфических особенностей. Больные, поступающие в ОРИТ с тяжелой дыхательной недостаточностью, как правило, старше 65 лет, страдают сопутствующей соматической патологией (диабет, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, неврологическая патология, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, гематологические заболевания, хронические вирусные заболевания, нарушения в системе свертывания крови). Все эти факторы говорят о том, что больные поступающие в отделение реанимации по показаниям относятся к категории тяжелых или крайне тяжелых пациентов. Фактически такие пациенты имеют ОРДС от легкой степени тяжести до тяжелой.
В терапии классического ОРДС принято использовать ступенчатый подход к выбору респираторной терапии. Простая схема выглядит следующим образом: низкопоточная кислородотерапия – высокопоточная кислородотерапия или НИМВЛ – инвазивная ИВЛ. Выбор того или иного метода респираторной терапии основан на степени тяжести ОРДС. Существует много утвержденных шкал для оценки тяжести ОРДС. На наш взгляд в клинической практике можно считать удобной и применимой «Берлинскую дефиницую ОРДС».
Общемировая практика свидетельствует о крайне большом проценте летальных исходов связанных с вирусной инфекцией вызванной COVID-19 при использовании инвазивной ИВЛ (до 85-90%). На наш взгляд данный факт связан не с самим методом искусственной вентиляции легких, а с крайне тяжелым состоянием пациентов и особенностями течения заболевания COVID-19.
Тяжесть пациентов, которым проводится инвазивная ИВЛ обусловлена большим объемом поражения легочной ткани (как правило более 75%), а также возникающей суперинфекцией при проведении длительной искусственной вентиляции.
Собственный опыт показывает, что процесс репарации легочной ткани при COVID происходит к 10-14 дню заболевания. С этим связана необходимость длительной искусственной вентиляции легких. В анестезиологии-реаниматологии одним из критериев перевода на спонтанное дыхание и экстубации служит стойкое сохранение индекса оксигенации более 200 мм рт. ст. при условии, что используются невысокие значения ПДКВ (не более 5-6 см. вод. ст.), низкие значения поддерживающего инспираторного давления (не более 15 см. вод. ст.), сохраняются стабильные показатели податливости легочной ткани (статический комплайнс более 50 мл/мбар), имеется достаточное инспираторное усилие пациента ( p 0.1 более 2.)
Достижение адекватных параметров газообмена, легочной механики и адекватного спонтанного дыхания является сложной задачей, при условии ограниченной дыхательной поверхности легких.
При этом задача поддержания адекватных параметров вентиляции усугубляется присоединением вторичной бактериальной инфекции легких, что увеличивает объем поражения легочной ткани. Известно, что при проведении инвазинвой ИВЛ более 2 суток возникает крайне высокий риск возникновения нозокомиальной пневмонии. Кроме того, у больных с COVID и «цитокиновым штормом» применяются ингибиторы интерлейкина, которые являются выраженными иммунодепрессантами, что в несколько раз увеличивает риск возникновения вторичной бактериальной пневмонии.
В условиях субтотального или тотального поражения дыхательной поверхности легких процент успеха терапии дыхательной недостаточности является крайне низким.
Собственный опыт показывает, что выживаемость пациентов на инвазивной ИВЛ составляет 15.3 % на текущий момент времени.
Алгоритм безопасности и успешности ИВЛ включает:
В связи с тем, что процент выживаемости пациентов при использовании инвазивной ИВЛ остается крайне низким возрастает интерес к использованию неинвазивной искусственной вентиляции легких. Неинвазивную ИВЛ по современным представлениям целесообразно использовать при ОРДС легкой степени тяжести. В условиях пандемии и дефицита реанимационных коек процент пациентов с тяжелой формой ОРДС преобладает над легкой формой.
Тем не менее, в нашей клинической практике у 23% пациентов ОРИТ в качестве стартовой терапии ДН и ОРДС применялась неинвазивная масочная вентиляция (НИМВЛ). К применению НИМВЛ есть ряд ограничений: больной должен быть в ясном сознании, должен сотрудничать с персоналом. Допустимо использовать легкую седацию с целью обеспечения максимального комфорта пациента.
Критериями неэффективности НИМВЛ являются сохранение индекса оксигенации ниже 100 мм рт.ст., отсутствие герметичности дыхательного контура, возбуждение и дезориентация пациента, невозможность синхронизации пациента с респиратором, травмы головы и шеи, отсутствие сознания, отсутствие собственного дыхания. ЧДД более 35/мин.
В нашей практике успешность НИМВЛ составила 11.1 %. Зав. ОАИР: к.м.н. Груздев К.А.
Что значит стабильное состояние пациента
Диагноз наличия COVID-19 может быть поставлен на основе анамнеза, клиники и при обнаружении РНК SARS-CoV-2 в дыхательных путях. Радиография грудной клетки должна быть выполнена, она обычно демонстрирует двусторонние консолидаты или помутнения по типу матового стекла.
Пациенты с тяжелой формой COVID-19 должны быть госпитализированы для тщательного наблюдения. Учитывая высокий риск внутрибольничного распространения инфекции, необходимо постоянно проводить процедуры инфекционного контроля. Если это возможно, пациент должен носить хирургическую маску, чтобы ограничить рассеивание инфекционных капель. Работники должны иметь соответствующие СИЗ.
Пациентов с тяжелой формой Covid-19 имеют существенный риск длительного течения болезни и смерти. За пациентами следует тщательно следить при помощи клинического обследования и пульсоксиметрии. Кислород должен подаваться с использованием носовой канюли или маски Вентури для поддержания насыщения гемоглобина кислородом. Принятие решения о необходимости интубации является важнейшим аспектом. Клиницисты должны взвесить риск преждевременной интубации с риском внезапного заражения в результате хаотичной срочной интубации, которая подвергает персонал более высокому риску. Признаки чрезмерного усилия при дыхании, гипоксемия, рефрактерная к кислороду, а также энцефалопатия предвещают надвигающуюся остановку дыхания и диктуют необходимость срочной эндотрахеальной интубации и искусственной вентиляции легких. Не существует единого числа или алгоритма, определяющего необходимость интубации. Если пациент не был заинтубирован, но остается гипоксемичным, то высокопоточная носовая канюля или НИВЛ могут улучшить оксигенацию и может предотвратить интубацию у отдельных пациентов. Некоторые эксперты не рекомендуют использовать высокопоточные носовые канюли и неинвазивную вентиляцию легких, поскольку эти методы лечения могут отсрочить необходимую интубацию и подвергнуть клиницистов воздействию инфекционных аэрозолей.
Когда бодрствующие пациенты поворачиваются в прон-позицию, вдыхая высокие концентрации кислорода, это улучшает газообмен у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Однако, неясно, может ли прон-позиция предотвратить интубацию. Поскольку трудно обеспечить спасательную вентиляцию легких пациентам, которые находятся в прон позиции, этого положения следует избегать у пациентов, чье состояние быстро ухудшается.
Рекомендуется принять во внимание прон-позицию пациента во время искусственной вентиляции легких c рефрактерной гипоксемией. Однако приведение пациента в прон-позицию пациентов требует команды из не менее трех опытных клиницистов,каждому из которых необходимы полные СИЗ. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) является потенциальной стратегией спасения у пациентов с рефрактерной дыхательной недостаточностью. Однако ЭКМО может быть неэффективна из-за наличия цитокиновой нестабильности и гиперкоагуляции и ее использование, вероятно, будет ограничено как пандемия ограничивает ресурсы.
У пациентов с COVID-19 часто присутствует гиповолемия. Объемное наполнение помогает поддерживать кровяное давление и сердечный выброс во время интубации и вентиляции под положительным давлением. После первых нескольких дней искусственной вентиляции легких цель должна заключаться в том, чтобы избежать гиперволемии. Лихорадка и тахипноэ у пациентов с тяжелой формой часто увеличивают потерю воды, поэтому необходимо уделять пристальное внимание водному балансу.
Нарушения свертывания крови, такие как тромбоцитопения и увеличение уровня D-димера распространены среди пациентов с тяжелым COVID-19 и связаны с более высокой смертностью. Для снижения риска венозного тромбоза должна использоваться тромбопрофилактика.
Пациенты, госпитализированные с тяжелой формой COVID-19, часто получают эмпирическое лечение антибиотиками. Однако бактериальная инфекция встречается редко, когда пациенты впервые попадают в больницу. Антибиотики могут быть отменены после короткого курса лечения, если отсутствуют признаки бактериальной инфекции, такие как лейкоцитоз и очаговые легочные инфильтраты. Окончательное решение по вопросу применения антибиотиков принимается в зависимости от конкретной клинической ситуации.
«Просто как овощ». Почему люди продолжают болеть и через год после ковида
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. По разным данным, от 20 до 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя страдают от его последствий. Среди основных симптомов — хроническая усталость, одышка, выпадение волос, панические атаки, проблемы со сном. Медики называют это постковидным синдромом. В России его диагностируют каждому пятому пациенту. Как эти люди живут и борются с осложнениями — в материале РИА Новости.
«Ничего делать не могла»
Плюс появились проблемы с сосудами на ногах и в глазах. Я даже думала, что у меня разрыв сетчатки на фоне кислородного голодания и повреждения сосудов. Но офтальмолог ничего не нашел, слава богу. Назначил капли, не помогли — глазные яблоки будто болели изнутри. Я консультировалась с разными врачами, никто ничего не мог толком сказать. Прописывали лекарства. От одних становилось только хуже, другие совсем не действовали.
Так как я индивидуальный предприниматель, смогла себе организовать очень лайтовый режим труда. Первые три месяца, до января, не работала вообще. Бизнес просто встал. Никаких доходов — проедала подушку безопасности.
«Пришлось уволиться с работы»
Александр Корчевный, 39 лет, Экибастуз, Казахстан. Сейчас лечится в Новосибирском центре профилактики тромбозов
Я заболел в начале июня 2020 года, заразился, предположительно, на работе. Сдал ПЦР-тест — положительный. Меня отправили на добровольную изоляцию в инфекционную больницу на 18 дней. Как оказалось, зря: родные один за другим заболели ковидом.
В стационаре особо ничем не лечили, только наблюдали, поскольку болезнь протекала не тяжело. Было легкое недомогание около трех дней, потом два дня плохо сбиваемая температура до 38. Пропали запахи, снизился аппетит, появились проблемы со сном. Первый «звонок» был дней через десять после постановки диагноза. Началась неожиданная тахикардия, паническая атака и подскочило давление. Сделали укол эуфиллина. Вроде немного полегчало.
Из больницы выписался не больной и не здоровый. Очень хотелось домой после изоляции. Но дальше было только хуже. Постепенно добавлялись новые симптомы, связанные с нервами и сосудами. Начались бесконечные походы по врачам. Никто из них до конца не понимал, в чем дело и как меня лечить. Все анализы более-менее спокойные. В течение года проходил курсы у пяти невропатологов в разных городах. Все ставили два диагноза: вегето-сосудистая дистония и синдром хронической усталости. Все намекали на психолога. У него я тоже побывал, он нарушений не выявил.
«Волосы лезли клочьями»
Наиля Вагизова, 38 лет, Казань
Когда я выписывалась из больницы, меня никто не предупреждал, что это может затянуться так надолго и восстановление будет столь тяжелым. От государственной медицины сейчас никакой помощи. Врачи в поликлинике ничего не говорят. Я сама сдаю все анализы платно, пью витамины, собираю информацию в интернете, от людей, которые тоже переболели. Я по профессии врач-лаборант, поэтому начала самостоятельно в теме разбираться и контролировать свое состояние.
«Мне легче думать, что это не ковид»
Заболела коронавирусом я в конце прошлой осени, но в декабре был уже хороший анализ. Про постковид меня врач сразу предупредила. Она сама перенесла COVID-19 и знает, что это такое. Сейчас время от времени у меня проявляются какие-то типичные симптомы, но я осознанно списываю их на основное заболевание. Мне так легче.
Я постоянно под медицинским наблюдением. Меня регулярно навещает врач. Мне бесплатно выдают антиагреганты, получаю в аптеке довольно дорогой антикоагулянт. На дом приезжают осматривать узкие специалисты и берут анализы. Но я редко беспокою поликлинику просьбами. Научилась с приступами справляться сама. В целом просто надеюсь, что рано или поздно тело приспособится к чужому вирусу. Если до сих пор выжила с таким списком болезней и даже перенесла ковид, значит, надо благодарить гены и ангела-хранителя.
«Главное — довериться врачам»
Валентина Нелюбова, 59 лет, Москва
Сейчас, слава богу, все позади. Восстанавливалась после ковида несколько месяцев, долго рассказывать. Но все закончилось хорошо. Я очень благодарна врачам филиала дневной больницы Алексеева при поликлинике 121-й, что в Южном Бутово. Они реально помогают справиться с постковидным синдромом, с депрессивным состоянием. Многие боятся психбольниц. Это какое-то неправильное толкование, непонимание. А ведь только квалифицированные психологи могут добраться до проблем постковида и помочь. По крайней мере, мне помогли.
«Это уже самостоятельное заболевание»
По данным исследователей Сеченовского университета, в России от постковидного синдрома страдают больше 20 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Среди самых частых жалоб — слабость (точнее, быстрая утомляемость), одышка, тревога, депрессия, проблемы со сном и выпадение волос.
«Постковидный синдром (ПКС) — это симптомокомплекс, который возникает вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. Это очень широкое понятие, которое может включать поражение нервной, сердечно-сосудистой систем, органов желудочно-кишечного тракта, мышечную атрофию. Могут быть даже какие-то психические проявления. Его продолжительность — дело сугубо индивидуальное. У кого-то основные симптомы в легкой форме разрешаются в течение двух-трех месяцев. У других сохраняются до года и даже больше. О максимальных сроках говорить рано. Мы пока только наблюдаем это заболевание, изучаем его. По моему опыту — дольше всего у пациентов держатся различные нарушения неврологического характера, поражения периферической нервной системы», — рассказал РИА Новости заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации профессор Евгений Ачкасов.
По его словам, симптомы ПКС, их выраженность и продолжительность часто зависят от тяжести течения COVID-19, но не всегда. Так, среди пациентов немало людей, которые относительно легко перенесли сам ковид, а от его осложнений мучаются уже более года.
«Основа реабилитационных программ при постковидном синдроме — дыхательная гимнастика, циклические физические упражнения, кардиопротекция. Мы стремимся защитить сердечную мышцу как медикаментозно, так и различными физиотерапевтическими вариантами. Используем массажи, барокамеры. Достаточно широкий спектр. Но надо понимать, что зачастую дома реабилитировать таких пациентов очень сложно. Лучше госпитализировать. Постковидный синдром — это уже самостоятельное заболевание, и к нему надо относиться очень серьезно», — подчеркнул профессор.
Однако если симптомы ПКС ярко выражены, а возможности обратиться к врачу нет, то специалисты советуют заниматься скандинавской ходьбой. Этот вид физической активности хорошо влияет на сердечно-сосудистую и дыхательные системы. А вот надувать шарики для восстановления объема легких ни в коем случае нельзя, чтобы не получить дополнительную легочную травму.
Оценка риска операции и профилактика осложнений
Любое, даже небольшое, хирургическое вмешательство таит в себе определенные опасности, которые необходимо предвидеть и попытаться предотвратить. О возможности развития интра- и послеоперационных осложнений нужно думать еще до начала операции, тогда же начинают принимать необходимые профилактические меры.
Цель предоперационной подготовки – максимально возможное снижение риска хирургической операции, предотвращение послеоперационных осложнений и уменьшение психологического стресса у пациента.
Прогнозирование риска хирургического вмешательства
Для суждения о степени опасности операции введено понятие «операционный риск». Однако множество факторов, от которых зависит благополучный исход вмешательства, делают это понятие весьма расплывчатым. Эти факторы включают, как физическое состояние самого больного, так и целый ряд других условий, таких как опыт и знания хирурга, подготовка и квалификация анестезиолога, наличие или отсутствие специального инструментария и фармакологических средств, качество предоперационной подготовки и послеоперационного ухода. По понятным причинам объективный учет и анализ всех этих факторов для каждого пациента практически невозможен. В связи с этим целесообразно при решении вопроса о прогнозе операции исходить из понятия «физического состояния больного», в оценке которого врач опирается на всю совокупность данных, полученных при предоперационном обследовании.
На определении физического состояния пациента основана классификация Американской Ассоциации Анестезиологов (ASA) широко используемая в мировой клинической практике.
Классификация физического состояния пациента по ASA:
I класс ∙ нормальный здоровый субъект;
II класс ∙ пациент с легкими системными расстройствами;
III класс ∙ пациент со значительными системными расстройствами,
ограничивающими активность, но не приводящими к
IV класс ∙ пациент с выраженным инвалидизирующим заболеванием,
которое представляет угрозу жизни;
V класс ∙ умирающий больной, который может погибнуть в течение
ближайших суток даже без хирургического вмешательства.
_______________________________________________________________
Экстренные операции обозначают дополнительным символом «Э»,
добавляемым к соответствующему классу.
Риск экстренной операции намного выше, чем плановой. Это связано с тем, что состояние пациента при подготовке к плановой операции можно улучшить с помощью коррекции метаболических и электролитных сдвигов, устранения анемии и гипоксии, адекватного питания. Вместе с тем в острых ситуациях опасность промедления с хирургическим лечением нередко перевешивает преимущества предоперационной подготовки.
Вместе с тем при определении степени риска хирургического вмешательства нельзя не учитывать объем и характер предстоящей операции. Естественно, что прогноз будет лучше даже для больного, отнесенного к третьей или четвертой группе, если ему предстоит небольшое вмешательство на поверхности тела. С другой стороны, шансов на благополучный исход становится меньше, если больному, отнесенному к первой или второй группе, предполагается произвести тяжелую операцию на полостных органах. Поэтому классификацию «физического состояния больного» дополняют типом предстоящего хирургического вмешательства. В России для определения прогноза операции на органах брюшной полости используют классификацию В. А. Гологорского:
А. Малые операции (вскрытие поверхностных гнойников,
аппендэктомия, грыжесечение, перевязка и удаление
Б. Операции средней тяжести на полостных органах (холецистэктомия,
вскрытие абсцесса брюшной полости).
В. Обширные хирургические вмешательства (резекция желудка и
Г. Радикальные операции на пищеводе и расширенные операции с
удалением нескольких органов брюшной полости.
Сумма баллов шкалы Глазго составляет 3-15. Конечную оценку получают путем сложения баллов по каждой из трех групп признаков; в каждой группе учитывают лучшую из выявленных реакций.
Профилактика осложнений
Возможности хирургии в лечении огромного числа заболеваний постоянно возрастают. Неизбежным спутником высокой хирургической активности являются различные послеоперационные осложнения. Возникающие осложнения значительно ухудшают результаты хирургического лечения, увеличивают летальность, приводят к существенному увеличению сроков госпитализации пациентов и общих затрат на лечение. В предоперационном периоде хирург и анестезиолог, иногда, несмотря на довольно жесткий цейтнот, обязаны детально ознакомиться с состоянием больного и провести его подготовку, направленную если не на полную нормализацию всех функций, то хотя бы на устранениё наиболее опасных нарушений деятельности жизненно важных органов и систем.
Всесторонняя подготовка пациента к хирургической операции включает физиологическую и психологическую поддержку и предусматривает развитие доверия, которое необходимо для оптимальных взаимоотношений между врачом и пациентом. Психологическая подготовка должна проходить одновременно с физиологической поддержкой, направленной на коррекцию имеющихся у пациента нарушений гомеостаза. Особые трудности возникают при подготовке к экстренной операции. Хотя и в этой ситуации необходимо стремиться к максимально возможной коррекции физиологических параметров и обсудить с пациентом пользу и риск предстоящей операции, возможности альтернативных методов лечения и прогнозируемый риск хирургического вмешательства. Кроме юридической обязанности хирурга предоставить эту информацию, процесс информированного согласия пациента на операцию позволяет уменьшить беспокойство пациента и получить его доверие.
При подготовке больных к операции, хирург и анестезиолог могут столкнуться главным образом с тремя видами расстройств — хроническими сопутствующими заболеваниями, нарушениями, связанными с основной хирургической патологией, и их сочетанием.
Сердечно-сосудистые осложнения
Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина периоперационных осложнений и летальности. Риск периоперационного инфаркта миокарда или смерти, вызванной сердечно-сосудистыми осложнениями, у больных, которым предстоит экстракардиальная операция, значительно увеличивается при наличии факторов, приведенных в табл. 3. 4. Особенно высок риск послеоперационных осложнений в первые месяцы после перенесенного инфаркта миокарда. Сочетание любых трех из первых шести перечисленных факторов свидетельствует о 50% вероятности периоперационного инфаркта миокарда, отека легких, желудочковой тахикардии или смерти больного. Наличие одного из трех последних факторов увеличивает риск этих осложнений только на 1%, тогда как любое сочетание двух из трех последних признаков повышает риск до 5-15%.
Степень риска развития послеоперационных осложнений может быть определена по сумме баллов (табл. 3. 5). Риск таких угрожающих жизни осложнений, как периоперационный инфаркт миокарда, отек легких и желудочковая тахикардия, становится высоким у пациентов с третьей степенью риска, а у больных при четвертой степени риска оперативное вмешательство возможно лишь по жизненным показаниям. Особенно высок риск анестезии и операции у больных со свежим инфарктом миокарда. Лишь по прошествии не менее полугода этот риск снижается (табл. 3. 6). Риск развития угрожающих жизни послеоперационных кардиальных осложнений может быть оценен также по виду хирургического вмешательства (табл. 3. 7).
Плановые хирургические вмешательства не следует проводить в первые 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда. Больным с ИБС необходима адекватная премедикация, предотвращающая активацию симпатоадреналовой системы и повышение потребности миокарда в О2 (бензодиазепины, центральные a-адреностимуляторы). ЭКГ – мониторинг у этой категории больных обязателен. Признаки ишемии миокарда – отрицательный зубец Т или высокий остроконечный зубец Т. Прогрессирующая ишемия – косонисходящая и горизонтальная депрессия сегмента ST. Подъём сегмента ST над изолинией – спазм коронарных артерий (стенокардия) или инфаркт миокарда.
Инвазивный мониторинг гемодинамики во время хирургического вмешательства и в течение 48 часов после операции показан при тяжёлой ИБС (фракция выброса 75