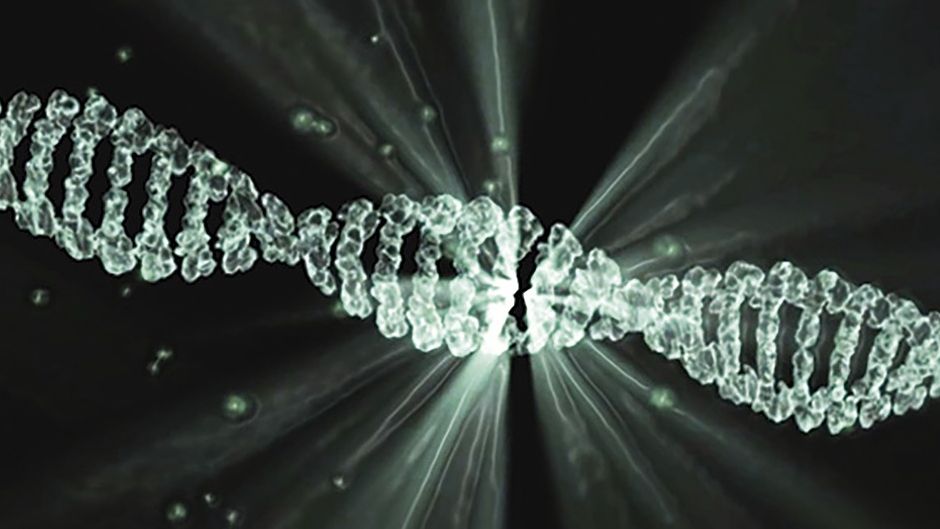Что будет с медициной через 10 лет
Медицина 2030: как мы будем лечиться в ближайшем будущем
Спикеры футурологического форума «Россия 2030: от стабильности к процветанию» делятся с читателями РБК своим видением того, как изменятся отрасли и социальные институты за 15 лет.
Врач-предсказатель
В отличие от политических и социологических прогнозов, зачастую предусматривающих в будущем глобальные процессы негативного и даже катастрофического характера, прогнозы касательно науки обычно изобилуют радужными перспективами. Практически в каждый исторический период развития цивилизации медицине прочили излечение человечества от всех заболеваний, шокирующее увеличение продолжительности жизни, бессмертие и появление у человека новых физических и психофизиологических свойств. Эти прогнозы никогда не сбывались в полной мере. Люди продолжали болеть и умирать, а медицинская наука — планомерно развиваться.
Непрерывное совершенствование в области генома человека рано или поздно должно привести к созданию персонифицированной медицины, основанной на уникальных свойствах каждого человека, его склонностях к той или иной патологии. Это позволит реализовать профилактическое направление медицинской деятельности, где врач окажется в позиции предсказателя дальнейшей судьбы каждого конкретного пациента на основании экспрессии тех или иных генов, отвечающих, например, за сердечно-сосудистую или онкологическую патологию.
Внедрение дородовой генетической диагностики рано или поздно должно стать рутинным мероприятием. Вероятнее всего, в определенный момент окажется возможным встраивание в систему человеческого генома при помощи генетических зондов, чтобы изменить предрасположенность к той или иной болезни (что уже реализуется в доклинических исследованиях). Остается только гадать, понравится ли людям такое проникновение в их собственное будущее.
Таблетка для клетки
Перспективы экспериментальной и клинической фармакологии, скорее всего, находятся в зоне индивидуальной доставки лекарственных препаратов при помощи наночастиц, что сделает возможным лечение микродозами с минимизацией побочных эффектов и осложнений. Между фармацевтическими компаниями разовьется ожесточенная борьба за освоение продвинутых технологий доставки лекарственных средств в клетки и ткани.
В ближайшем к нам будущем будут, несомненно, найдены эффективные схемы радикального лечения таких социально опасных инфекций, как ВИЧ и гепатит С. Тем не менее совершенствование антибиотикотерапии приведет (и уже приводит) к появлению новых поколений лекарственно устойчивых бактерий, стремительной эволюции вирусов. Перед цивилизацией появятся принципиально новые инфекционные угрозы.
Проблема рака, несмотря на постоянные разработки, скорее всего, будет актуальна не менее 100–150 лет, а глубинные механизмы канцерогенеза не будут раскрыты, поскольку они связаны с базовыми биологическими причинами жизни и смерти на клеточном и субклеточном уровнях. Лечение онкологических заболеваний будет в первую очередь базироваться на массовых профилактических обследованиях с применением обновленных линеек онкомаркеров с выявлением ранних стадий болезни.
Изучение мозга и нервной ткани выйдет на новый уровень, предоставив цивилизации принципиально новые возможности. Нейромодуляция и функциональная нейрохирургия головного и спинного мозга, несомненно, является наиболее интересным разделом практической нейромедицины и нейробиологии. При помощи специальных электродов, устанавливаемых в различные отделы нервной системы, станет возможно дистанционное управление тонкими моторными и сенсорными нарушениями, лечение болевых и спастических синдромов, психических болезней. Это будущее, но его разработки уже сейчас в руках нейрохирургов.
Проблемы долгой жизни
Есть и обратная сторона прогресса — человек будущего будет жить дольше и оттого болеть чаще. Вопрос о новой доступной среде для инвалидов, создании биологических протезов станет еще более актуальным. Огромный интерес представляют разработки в области стволовых клеток, развитие которых может быть направлено по любому пути, а значит, открываются перспективы для восстановления спинного мозга после его полного анатомического перерыва, кожи после массивных ожогов и т.д.
Как хирург не могу не отметить тот факт, что будущее клинической медицины не за хирургией. Уже сегодня вся прогрессивная хирургия строится на минимизации доступа, применении эндоскопических и малоинвазивных технологий. Эра кровопролитных и опасных вмешательств, которые хирурги иронически называют «Сталинградская битва», постепенно будет уходить в прошлое. Применение технологий радиохирургии и киберхирургии, а также роботизированных операций уже сегодня вытесняет руку хирурга-оператора из целого ряда специальностей.
Очевидным следствием этого станет, безусловно, массовое применение средств активной и пассивной эвтаназии и связанные с этим политические, религиозные и философские изменения. Эвтаназия станет технологическим явлением. Человек сможет жить дольше, но не факт, что он этого захочет.
Упрощение коммуникации между людьми и прогресс средств связи, равно как и увеличение темпа жизни, неизбежно приведет к изменению структуры психиатрической патологии. Депрессия, неврозы навязчивых состояний и шизофреноподобные психозы будут иметь огромную распространенность и потребуют внедрения новых средств психофармакотерапии. Человек будущего будет потреблять препараты для коррекции настроения аналогично современным витаминным добавкам.
Возрастание доли дорогостоящих и высокоэффективных методов лечения и профилактики тяжелых болезней будет способствовать социальному расслоению общества. Высокотехнологичная медицина будущего станет медициной для богатых, в то время как качество оказания помощи бедным слоям населения будет снижаться от одного десятилетия к другому. Это будет становиться причиной протестов и политических явлений, последствия которых трудно будет предсказать.
Станет ли врач будущего умнее и прогрессивнее? Несомненно. Будет ли человек будущего жить здоровее и счастливее? Едва ли.
Что будет с медициной через 10 лет: прогноз
Еще каких-то пару столетий назад большинство болезней лечили кровопусканием. Сегодня у нас есть антибиотики, аппараты для МРТ и малоинвазивная хирургия. Что еще принесет научно-технический прогресс в медицину? Изменится ли отношение людей к своему здоровью? Об этом проект «Здоровье Mail.Ru» поговорил с сооснователем и медицинским директором биомедицинского холдинга «Атлас» и докладчиком второй международной конференции «Будущее медицины» в Санкт-Петербурге Андреем Перфильевым.
Как выглядела медицина XIX века? Врач лечил людей по тем принципам, которые казались ему правильными. Об эффективности терапии он судил по своей практике и по рассказам более опытных коллег. Если учитель считал, что кровопускание помогает, то все его ученики принимали это на веру и использовали метод.
В XX веке появилась доказательная медицина. Теперь, чтобы лекарство или терапевтический метод получили одобрение, они должны пройти клинические исследования. В хорошем исследовании участвовало не менее 1000 человек, и если большинству лечение помогало, его признавали эффективным. Но все равно эти 1000 человек — некая усредненная группа, которой, допустим, с вероятностью в 90% поможет новое лекарство. А как узнать, что вы не попадете в оставшиеся 10%? Никак.
Наконец, сегодня настала эра точной и персонализированной медицины. В крупных исследованиях учитывают разные генотипы людей, чтобы затем подбирать для каждой группы самую подходящую терапию. В итоге, в зависимости от своих генов человек может получить разные рекомендации по типу и дозировке медикаментов.
В некоторых случаях препараты уже можно создать под конкретного пациента — например, сделать лекарство от рака на основе собственных клеток человека.
— Персонализированный подход уже работает в реальной практике?
— Да, это постепенно внедряется в клиническую практику. Недавно компания Novartis получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешение использовать метод CTL019-терапии — лечить лейкемию с помощью модифицированных иммунных клеток пациента. Конечно, пока такая терапия стоит сотни тысяч долларов, но сам факт ее появления уже говорит, что технологически такой подход уже возможен и доказывает свою эффективность. Та же FDA уже одобрила список из более 200 лекарств, которые можно назначать с привязкой к генотипу.
Но если вы прошли генетический тест, вы можете получить от врача персональные рекомендации по приему лекарств: антидепрессантов, антикоагулянтов, противовирусных препаратов, гормональных контрацептивов и других.
— Один из последних трендов в медицине — это омиксные технологии. Что это такое?
— Слово «омиксные» происходит от суффикса «ом», который обозначает совокупность, объединение частей в одно целое. Вот, например, геном — это совокупность всех генов человека. После того, как в 2001 году ученые расшифровали геном человека, стала активно развиваться геномика — направление в медицине, которое изучает связи между ДНК и развитием заболеваний. Но ученые не остановились на геноме и стали придумывать другие «омы». Они решили делать это, следуя той логике, по которой происходят все процессы в организме.
Базовый уровень — это ген: в нем записана информация о том, как создавать белки, из которых строится организм. Для построения белков используются молекулы-посредники — информационные РНК (иРНК), которые переводят «коды» из ДНК, то есть осуществляют транкрипцию. Совокупность иРНК — транскриптом, его изучает транскриптомика. В результате получаются белки, или протеины — их совокупность изучает протеомика.
В свое время было модно объединять любые явления в организме в какой-нибудь «ом». Например, все показатели больного диабетом можно было бы назвать «диабетом». В итоге «омов» стало так много, что было непонятно, что делать со всей этой информацией.
В 2012 году ученый из Стэнфорда Майкл Снайдер опубликовал исследование своего личного интегрома (коллеги Снайдера иронично называют его «нарциссом»). Интегром — это «ом» «омов», совокупность всех совокупностей. Михаэль в течение многих месяцев тщательно собирал все данные о своем организме: сдавал десятки анализов, исследовал свой геном, транскриптом, протеом.
— А обычному человеку доступны омиксные технологии?
— Геномика — да, со всем остальным пока сложнее. Как я уже говорил, все дело в стоимости технологий. К тому же, омиксный подход— довольно новый: многие врачи о нем не знают, не говоря уже о пациентах.
Мне нравится идея интеграции разрозненных знаний о теле человека в некое единое целое. Организм — очень сложная система, которую мы до конца не понимаем, но на основе «омов» можно построить некую «карту», на которой можно находить отклонения на очень ранней стадии — еще до того, как болезнь проявит себя.
— Значит, будущее медицины в том, чтобы переходить от лечения к профилактике?
— Совершенно верно. Профилактика всегда была лучше, чем лечение, но сегодня у нас куда больше возможностей для того, чтобы предотвращать болезни.
Эти датчики встроятся в повседневную жизнь, и вы не будете их замечать, но они будут постоянно контролировать состояние вашего организма. И если заметят малейшее отклонение — тут же сообщат об этом врачу.
Возможно, медицинская сфера даже разделится на две индустрии: профилактика и лечение. На стороне профилактики будут свои отдельные учреждения и специалисты — те, кого мы сегодня называем «веллнесс-коучами». Врачи же будут заниматься только лечением.
Понятно, что даже с очень хорошей системой профилактики полностью избежать болезней не удастся — как минимум потому, что есть еще инфекционные заболевания и травмы. Но я надеюсь, что большую часть болезней удастся предотвращать. Медицинской индустрии придется научиться тому, как правильно работать со здоровыми людьми, чтобы они оставались здоровыми.
В медицине — новая гонка вооружений. Через 10 лет она изменит мир
В каком направлении развивается цифровая медицина, заменит ли искусственный интеллект врача и что нужно, чтобы у нас было не хуже, чем в Израиле
Можно долго обсуждать медицину и приводить в пример разнообразные мнения. Можно оценивать и по-разному трактовать деятельность нашей медицинской системы по лечению населения и борьбе с новыми угрозами. Важно не пропустить один из главных трендов сегодняшнего дня: именно медицина, а точнее — цифровая медицина уже перешла в категорию самых развивающихся технологических рынков. Анатолий Кияшко, основатель проекта LISA Device, эксперт по цифровым медицинским технологиям IT-парка и Университета Иннополис, предрекает: в ближайшие 10—15 лет тотальное превосходство в инженерных идеях будет принадлежать тем, кто сейчас будет развивать и делать эту «медицину в цифре». Свои размышления он изложил в авторской колонке для «Реального времени».
К чему мы пришли за последние 5 лет
Во-первых, контекстная реклама выдает вам информацию о медицинских услугах или клиниках, даже если вы никогда не искали конкретно этих услуг и были в полном неведении о существовании подобных клиник.
Это один из самых явных результатов, которые пользователь Сети сможет увидеть уже сегодня, в декабре 2021 года. И это можно прямо отнести к цифровизации медицины: алгоритм определит, где вы находитесь, и «подсунет» рекламу той клиники, рядом с которой вы регулярно бываете (например, она находится неподалеку от вашего дома или работы).
Во-вторых, колоссальная открытость медицинских и околомедицинских данных, их мгновенная передача по Сети дает очень большие успехи в лечении.
Например, онкологические пациенты переносят лечение гораздо легче и эффективнее, чем прежде, благодаря тому, что их удается диагностировать раньше, передавая их обезличенные данные коллегам по Сети. Мне кажется, это — очень классная история.
В каждом похожем случае медики сталкиваются с необходимостью считать эти данные и проанализировать их. Однако за последние 5 лет системно этого не произошло ни на федеральном, ни на региональном уровне. Мы не видим, чтобы на поток встала онлайн-диагностика. Причина простая: мы пока имеем дело только с построением экосистемы. Первым шагом на этом пути была автоматизация процессов, обучение как пациентов, так и врачей и вообще погружение в цифру. Да, пандемия существенно усилила последний момент с погружением. Но определенно, все это начиналось еще 10 лет назад, а за последние 5 лет появились контуры общей системы и понимание у государства и стейкхолдеров процессов на региональном уровне.
Кто на региональном уровне в этом заинтересован
Конечно, первым на ум приходит Минздрав — и действительно, он едва ли не больше всех заинтересован в цифровизации здравоохранения. Это дает и понятные технологии лечения пациентов, и наглядный учет во всех областях здравоохранения, и мгновенный документооборот, и множество других полезных процессов.
Но только 30% здоровья человека обеспечивают врачи и больницы. Оставшиеся 70% зависят от его образа жизни, от питания, от уровня стресса — в общем, от факторов жизнедеятельности. Так что все-таки стейкхолдеров цифровизации здравоохранения должно быть по определению больше.
В Казани создана рабочая группа по внедрению и развитию цифровых медицинских технологий. Инициатива исходила от нескольких высокотехнологичных стартапов. В задачи рабочей группы входит инвентаризация действующих и разрабатываемых решений. Впоследствии планируется создать мягкую привязку к поставщику (vendor lock) — она поможет внедрять и продавать решения, которые создаются в Татарстане. Причем не только в Россию, но и в страны, близкие нам по менталитету и экономике.
Такой подход похож на метод, который использует компания Huawei, благодаря чему рождаются такие проекты, как «умный тоннель» в аэропорту. Это нововведение позволяет туристам проходить проверку, вообще не предъявляя никаких документов (ни паспортов, ни билетов) и не контактируя с сотрудниками аэропорта. Вместо классического прохождения контроля пассажиру достаточно зарегистрироваться у одной из стоек аэропорта, где ему просканируют радужную оболочку глаз. Потом эти данные автоматически «привязываются» к его проездным и прочим документам, уже внесенным в базу данных.
Искусственный интеллект
Самые крутые практики сейчас связаны с использованием ИИ для распознавания снимков КТ и первичного их анализа без участия врача. Надо сказать большое спасибо республике, что одной из первых начала внедрение подобных технологий.
Одними из локомотивов в нашей стране по этому направлению были Республиканская клиническая больница и международная компания Radlogics — они одними из первых стали применять сквозную технологию в медицинских процессах.
Но есть у них и достойные конкуренты на уровне резидентов Сколково, и благодаря «Московскому эксперименту» такие разработчики имеют равные права на экспертизу своих решений.
Но почему мы отстаем?
К сожалению, мы не умеем еще, как это делают в Израиле, формировать под целевые задачи технологические команды для создания продуктов и сервисов, которые могли бы по понятным процедурам встраиваться в экосистему медицинских учреждений (как государственных, так и частных).
Нам не хватает ни кадров, ни бюджетов, ни многих других необходимых ресурсов. Ведь врачи, которые каждую минуту спасают жизни, не могут заниматься цифровизацией. А программисты, создающие классные решения и сервисы, не могут удаленно лечить по Wi-Fi.
Возможно, я утрирую, но чтобы объединить два этих сообщества в «едином доме», нужно сначала заложить фундамент. Провести оптоволокно в больницы, обеспечить 5G—6G связь, чтобы врач мог проводить осмотр с планшетом, а не с ручкой и блокнотом. А еще надо сделать так, чтобы эта инфраструктура могла работать бесперебойно, даже с учетом потенциальных форс-мажоров.
То есть любые гаджеты и тяжелые медицинские комплексы должны быть обеспечены источниками бесперебойного питания и продолжать работать, даже если будет выключено электричество в целом микрорайоне (как это часто случается в некоторых удаленных российских городах).
Медицинский интернет вещей и «новая ДНК» медицинского мира
Уже сейчас пациенты в Сколково, в филиале израильской клиники Hadassah, могут с помощью мультипараметрического устройства ежедневно передавать данные врачу, а приходить на очный прием только раз в две недели. При этом врач не тратит время на понимание анамнеза пациента и выяснение его образа жизни, а как аналитик занимается его здоровьем, видя его данные, представленные в динамике, в трендовом отображении.
И именно такие штуки нам надо научиться делать самим. А для этого нужно, чтобы университеты, клиники, лидеры регионального IT-бизнеса собирались вместе, на одной площадке. Надо, чтобы они договаривались между собой — и понемногу вводили новую бизнес-ДНК в свои процессы. Пора начинать формировать наше новое медицинское будущее совместно!
Медицина через 10 лет: четыре «П»
Биомедицинские технологии будущего
Антон Евсеев, «Правда.Ру»

С 1 по 3 февраля нынешнего года в Москве прошло заседание Консультативного научного совета Фонда «Сколково». В рамках работы Совета было предусмотрено проведение сразу нескольких мероприятий. Одним из самых интересных пунктов программы стала международная сессия, посвященная вопросам развития биомедицинских технологий.
Собственно говоря, данная сессия поистине может считаться самым главным научным событием в России с начала 2011 года. Хотя бы потому, что в ее работе приняли участие ученые с мировым именем. Многие из них давно уже стали легендами современного научного мира. С особенным же нетерпением все собравшиеся ожидали доклада профессора Лероя Худа, основателя и директора Института системной биологии (США) человека, о котором в свое время говорили, что он является основателем всех современных технологий секвенирования (определение нуклеотидной последовательности молекулы ДНК) и синтеза белков и нуклеиновых кислот, без 5 минут нобелевским лауреатом, хотя давно уже перерос эту премию и на его открытиях работают многие нобелевские лауреаты.
Среди молекулярных биологов доктор Худ известен как изобретатель синтезатора ДНК. Напомню, что так называется устройство, позволяющее проводить параллельный синтез около сотни коротких цепочек нуклеиновых кислот. С помощью этого прибора можно создавать ДНК и РНК, а также проводить различные модификации этих молекул. По мнению руководителей знаменитого Фонда Лемельсона, именно синтезатор ДНК обеспечил успех проекту «Геном человека» компании Institute for Systems Biology, в результате которого была составлена карта полного набора генов человека.
Кроме того, доктор Худ считается основателем принципиально нового направления в медицине, получившей название «4-П» медицины. Четыре буквы «П» подразумевают, что данная отрасль должна быть предиктивной (предсказательной, позволяющей прогнозировать заболевания на основе индивидуальных особенностей генома), персонализированной (то есть применять индивидуальный подход к каждому больному), превентивной (то есть работать на опережение, предотвращать возможность заболевания), партисипативной (то есть основанная на активном сотрудничестве различных специалистов, а также врачей и пациентов).
Основным принципом «4-П» медицины является постоянное генетическое и биохимическое тестирование людей. Это позволит выявить многие заболевания на ранних стадиях развития, еще до того, как человек почувствует недомогание (после которого все обычно к врачу и обращаются). По прогнозам доктора Худа, в ближайшем будущем учёные смогут идентифицировать генетику большинства болезней, и это существенно увеличит продолжительность жизни каждого человека: «Мой прогноз: в ближайшие три десятилетия мы будем свидетелями удивительного увеличения продолжительности жизни человека, возможно – на 10-20 лет».
Также, согласно мнению ученого, стремительное развитие биомедицинских технологий приведет к тому, что: «через 10 лет мы будем владеть нанотехнологическими инструментами, которые позволят изучить геном менее чем за час. У нас появятся устройства, которые позволят по анализу крови из пальца провести 10 тысяч различных тестов. Полученные данные по сотовой связи мы будем отправлять на сервер, который каждые шесть часов станет посылать вам сообщения, вроде «Вы здоровы» или «Вам пора посетить онколога».
Однако для того, что бы это произошло, необходимо развитие новой, системной биологии, которая будет тесно интегрирована с другими научными дисциплинами. Именно об этом, а также о последних достижениях в новой области доктор Худ рассказал в своем докладе на международной сессии, посвященной вопросам развития биомедицинских технологий.
Ученый заявил, что системный взгляд на болезни – это значит, что в той или иной мере существует нарушение в биологической сети, которое собственно и вызывает заболевание. Если вооружиться этим принципом, можно совершенно иначе взглянуть и на само лечение болезней, и на возможности медицины в целом. Подобное нарушение не может пройти незамеченным для всех молекулярных структур организма, его можно уловит, исследуя гены и их работу.
Кое-какие успехи на этом пути уже достигнуты. В настоящее время, на основе изучения различных геномов мы выделили для себя 5 основных типов людей, и теперь с уверенностью можем предсказывать вероятность появления 8-9 различных заболеваний, в том числе онкологических.
Конечно, поставленная нами задача не выглядит простой, необходимо будет научиться извлекать информацию о деятельности всего организма из одной клетки, перевести эту информацию в цифровой режим, при этом делать это все оперативно. Это значит, что из примерно 70 тысяч генов нужно выделить тот, которые в результате ли мутации, или иного изменения вызывает сбой работы системы. Выявление такого гена, должно вестись в режиме профилактики, еще до проявления болезни.
Применение подобного метода позволит вывести медицину на качественно новый уровень. Уже через два года мы планирует разобраться со всеми типами человеческой ДНК, это сделает анализ и диагностику еще более точными. И хотя еще раз повторю, что это весьма непростая задача, однако кое-какие успехи в данной области у нас уже есть. Мы сейчас подходим к тому, что бы по анализу одной капли крови делать до 25 тысяч измерений. В тоже время, для оперативного контроля заболеваний необходимы миллиарды единиц информации, для отработки методик потребуются усилия множества врачей, необходимо будет собрать тысячи, миллионы пациентов. Однако я считаю, что всего этого вполне возможно будет добиться».
Итак, основной подход новой медицины – выявлять возможность сбоя в работе человеческого организма на самом тонком, молекулярном уровне. До недавнего времени это казалось чем-то нереальным. Кстати, автор этих строк во время доклада великого ученого постоянно слышал реплики, исходящие от сидевших рядом ученых: «Это просто фантастика! Однако это возможно!». Похоже, даже коллеги доктора Худа, не ожидали услышать от него столь ошеломляющих вещей.
Согласно мнению ученого, одним из факторов, который может обеспечить быстрое развитие данной отрасли, является создание условий, позволяющих молодым специалистам быстро реализовывать свои разработки. По словам ученого, дефицит образованных кадров в науке является не только российской, но и всеобщей проблемой. «Мы очень много времени и средств, тратим на образование, на подготовку кадров, обучение молодых специалистов. Проходят годы, прежде чем приходящие к нам молодые специалисты начинают понимать то, чем они занимаются, и могут сказать свое слово в развитии предмета. Но вместе с тем, мы понимаем, что молодым ученым необходимо дать возможность утвердиться в науке, дать возможность сказать свое слово» – сказал Лерой Худ.
Самое интересное, что одной из задач иннограда «Сколково» как раз и является создание для ученых возможностей для быстрой реализации собственных проектов. Так что, скорее всего, Лерой Худ сможет в ближайшее время договориться с руководством «Сколково» о сотрудничестве. Хотя ученый прямо не говорит о своих планах в этом направлении, однако стало известно, что он предложил организовать в иннограде филиал Института системной биологии и медицины, по аналогу с тем, который был создан при его участии Люксембурге. Деятельность такого института, по словам исследователя, требует достаточно скромного финансирования, а именно 100 млн. долларов США на 5 лет.
Кому-то, возможно, подобная цифра покажется слишком большой, однако подобный институт необходим нашей стране, если мы хотим быть лидерами в разработке биомедицинских технологий. Как сказал профессор Евгений Николаев по поводу выступления своего коллеги: «… знания и технологии, которыми владеет научная школа Лероя Худа, без всякого сомнения, интересны и были бы полезны для нашей науки и медицины». А это значит, что, скорее всего, филиал Института системной биологии в «Сколково» все-таки будет.