Что в xv в называли животом
Что в XV веке называли животом?
Помните эпизод из «Иван Васильевич меняет. «.Там он\Иван Грозный заносит кинжал над режиссёром Якиным и говорит:»моли трусливый холоп,живота или смерти».Но на колени бросается жена Шурика и умоляет его :»Живота,живота!».Отсюда,слово живот означал со ст.славянского слово «ЖИЗНЬ»
Тут вспомнили эпизод из всем известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: живота или смерти. Да, живот, в те времена это означало ЖИЗНЬ, а сейчас это значение устаревшее. В первую очередь под животом мы понимаем часть тела.
Если мы заглянем в словарь, например, Ушакова или Даля, то найдем подтверждение этому. В нашем языке еще сохранились пословицы со словом живот в значении жизнь.
Ну как в известной картине Гайдая про Ивана Васильевича: «живота или смерти проси. «. Живот-жизнь.
Думаю, что в те времена животом называли жизнь. Отсюда и присказка: «бились не на живот, а насмерть».
Богиня счастливого детства была в египетской мифологии. Это точно. Только вот не помню, какая именно.
Возможно, Таурт (по-гречески ее называли Тоэрис). Богиня Таурт изначально была богиней плодородия. Но со временем ее функции изменились: она стала покровительствовать детям и женщинам (помогала при родах, лечила от бесплодия). Не зря ее священным животным был гиппопотам (бегемот). Ведь известно, что самки бегемотов устраивают своеобразные детские сады для своих детенышей. Когда самки бегемотов отлучаются, одна (или несколько) остается с детьми, присматривает за ними.
Изображалась богиня Таурт в виде беременной самки бегемота.
Правда, были у Таурт и другие функции: заботилась о душах в загробном мире (в некоторых мифах Таурт была женой Сета), отгоняла от жилищ людей злых духов.
Сама история показывает и доказывает, что история ни чему не учит, а, следовательно, никакой она не учитель.
Самое жуткое, что большинство людей никаких войн не хочет, но их-таки заставят убивать друг друга, те кто мнит себя столпами общества.
И весь живот наш Христу Богу предадим
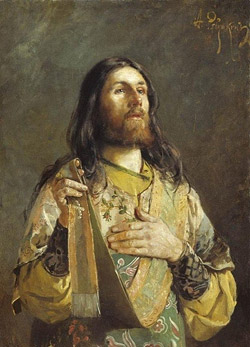 |
Все чаще в православных храмах за богослужением можно слышать, как в ектеньях вместо привычного слова ‘живот’ священник или диакон произносят непривычное слово ‘жизнь’.
Автор этих строк, конечно, осведомлен о практикуемой подмене этих и других молитвенных слов в некоторых храмах города Москвы и его окрестностей. Ну, на то он и столичный город, чтобы страдать от избытка ума. Но каковы же были мои удивление и смущение, когда прошедшим летом в Великом Новгороде на богослужении в древнейшей русской обители – Юрьевом мужском монастыре – я услышал новомодную столичную ‘жизнь’ там, где испокон веков стоял ‘живот’. То еще очень важно заметить, что в ограде Юрьева монастыря располагается Новгородское духовное училище. Что же выходит? Что в Новгороде уже даже не упражняются в нововведении, но вовсю ему учат как самому обыкновенному делу? Однако прежде, чем «написанное пером рубить топором», не мешало бы разобраться, насколько необходима эта замена и какими соображениями руководствуются самочинные редакторы богослужебных текстов.
Можно предположить, что замена ‘живота’ на ‘жизнь’ производится на том «серьезном» основании, что слово ‘живот’ непонятно широкой аудитории. Но этот довод очень странен уже по одной той причине, что в русском языке есть хорошо известное выражение не щадя живота своего, и говорить, что употребляемое за богослужением слово ‘живот’ многим непонятно, значит говорить, что многим русским людям непонятен смысл вышеприведенного выражения. Но уместно ли столь невысокое мнение о знании своего языка русскими людьми?
Аргумент о «непонятности» слова ‘живот’ странен не только с частной филологической точки зрения, он странен в принципе. Множество церковнославянских слов непонятно для переступающих порог храма впервые, как и вообще многое в Церкви непонятно для приходящих в нее из мира. Что же тогда, чтобы им было проще освоиться, надо все непонятное разрушить? Однако цель воцерковления состояла и состоит вовсе не в том, чтобы, вычеркнув непонятное, принять из церковной жизни только то, что доступно житейской логике. Истинное воцерковление происходит как раз наоборот – через перемену жизни и выстраивание ее, часто вопреки своей греховной природе и личному разумению, по евангельскому ладу и церковному строю.
И еще одно замечание о «непонятности» слова ‘живот’ можно привести. Осмысленно слушает службу, то есть не только имеет уши ее слышать, но хотя бы попросту старается прислушаться к ней, вовсе не широкая аудитория, а та незначительная часть прихожан, которая из-за регулярного участия в богослужениях может быть названа верной ее частью, и эта часть наверняка знает, что упоминаемый на ектеньях ‘живот’ это вовсе не ‘желудок’. Ради кого же тогда менять слова молитв? Ради тех «захожан», что идут в храмы только потому, что там можно свечку поставить «за здравие», «за упокой» или просто «за все хорошее»? В том же Юрьевом монастыре из сотен ежедневно проходящих через обитель туристов на службе задерживаются единицы. Так неужели только ради этих задержавшихся единиц изменять богослужение, потому как, видите ли, им очень важно услышать вместо слова ‘живот’ именно слово ‘жизнь’? О, если бы им это было важно! И если бы они задерживались в храме для осмысленного участия в молитве… Если бы все приходили в храм действительно для Бога, а не для себя, то есть не для того только, чтобы себе от Бога что-то земное получить, то не было бы нужды словесных замен искать, потому что всем таковым Господь Сам все объясняет.
Другой «весомый» аргумент в пользу замены ‘живота’ на ‘жизнь’ сторонники этого приводят такой: дескать, слово ‘живот’ звучит в церковных стенах немолитвенно и даже неприлично. Но исходя из этого еще более странного, чем о «непонятности», аргумента, надо бы и слово ‘чрево’ заменить на более благозвучное для невоцерковленных ушей слово, например на ‘лоно’. «Благословен плод лона Твоего…» – звучит куда как возвышеннее, чем «Благословен плод чрева Твоего…» И многие другие церковные слова надо бы тогда заменить. Но ни ‘чрева’ ‘лоном’, ни ‘живота’ ‘жизнью’ заменить нельзя, потому что церковнославянское слово ‘живот’ вовсе не означает ту отвлеченную жизнь, которая рисуется нам в выражениях жизнь во вселенной или жизнь под водой, не означает оно и ту семейно-трудовую жизнь, о которой у нас спрашивают при встречах: как жизнь? Что же тогда означает слово ‘живот’ в богослужебных текстах?
Церковнославянское слово ‘живот’означает, как об этом хорошо сказано в словаре протоиерея Григория Дьяченко, «органическое существование, бытие в союзе души и тела». Под «органическим» здесь нужно, конечно же, разуметь существование, связанное с питанием и претворением пищи, а не то хорошо устроенное и налаженное бытие, которое еще можно назвать органичным или организованным. Иными словами, церковнославянское слово ‘живот’ можно определить как семейный со-уз небесной души и перстного тела со всеми его потрохами, без которых, собственно говоря, земной жизни и не бывает. Этот со-уз в церковных текстах еще именуется смешением. Например, в молитве ко святому причащению Симеона Метафраста: «Наше все восприемый смешение от чистых и девственных кровей». Так что с легкостью заменить слово ‘живот’ словом ‘жизнь’ значило бы лишить церковный язык особого, закрепленного за этим словом значения, о котором говорит протоиерей Григорий Дьяченко.
Да, конечно, в приблизительном и, так сказать, округленном значении слово ‘живот’ означает ‘жизнь, существование’, как и другие происходящие от корня жи- слова: ‘жила’ (жизненный нерв), ‘жито’ (необходимые для жизни злаки), ‘пажить’ (место жизни, пастбище). Но ‘живот’ – это особая жизнь, органическая. Причем такое толкование этому слову дает протоиерей Григорий Дьяченко исходя из области его применения в церковных текстах. О том же, насколько многозначным оно было в повседневном употреблении в XV веке нашей истории, можно судить по псковской грамоте-завещанию, которую приводит в своей книге «История русского языка в рассказах» (СПб., 2007) профессор В.В. Колесов.
«Ну, так это и требовалось доказать! – радостно скажут “животоборцы”. – Если в XV веке слово ‘живот’ заключало в себе такое разнообразие значений, то в XXI веке столь же многозначным стало слово ‘жизнь’, которое вытеснило на обочину языка отслужившее свою службу, явно устаревшее и даже мешающее правильному пониманию церковных текстов слово ‘живот’. И поэтому если произносимое в XV веке прошение ектеньи “и весь живот наш Христу Богу предадим” означало предание Христу Богу всего, что имел человек: его жизни, имущества и даже смерти, то, чтобы адекватно передать смысл этого прошения в XXI веке, необходимо слово ‘живот’ заменить на слово ‘жизнь’».
Хорошо, давайте разбираться с этим аргументом замены, который назовем аргументом «адекватного понимания».
Как известно, чтобы адекватно, или, по-русски говоря, правильно и точно, понять значение какого-либо слова или выражения, нужно рассмотреть его контекст, то есть словесное окружение, и чем шире это окружение, тем адекватнее понимание. Поэтому я предлагаю рассмотреть слово ‘живот’ в контексте не нескольких ближайших предложений, но всего церковнославянского языка. И даже настаиваю на этом условии по той причине, что в церковнославянском языке есть слова, которые нынче, как и ‘живот’, вобрали в себя современное слово ‘жизнь’, но которые в том же XV веке имели вполне отличные и самостоятельные значения. Какие это слова?
…жизни Подателю – это о Святом Духе.
…да тихое и безмолвное житие поживем – это о жизни буднично-бытовой.
…идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная – это уже о совершенно иной, неземной жизни.
Последний пример взят из панихиды. В этом молитвенном чине, совершаемом об упокоении усопших, различие слов ‘жизнь’ ‘житие’ и ‘живот’ видится особо наглядно. Так, в тропарях панихиды поется: «Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемой, святии, и присносущней преставльшеся… В путь узкий хождшие прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии… Воистинну суета всяческая, житие же сень и соние… Всесвятая Богородице, во время живота моего не остави мене… Со духи праведных скончавшихся душы раб Твоих Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, яже у Тебе Человеколюбче… Яко Ты еси Воскресение, Живот и покой усопших рабов Твоих…»
Смысловое различие слов ‘жизнь’, ‘житие’ и ‘живот’ здесь видно без пояснений. Разве что в последнем предложении (это начало священнического возгласа, завершающего каждую заупокойную ектенью), кажется, что вместо слова ‘живот’ уместнее слово ‘жизнь’, поскольку усопшие «органического существования в союзе души и тела» иметь не могут, и Сам Христос для них является скорее ‘жизнью’, чем ‘животом’. Но это только кажется, что уместнее. На самом деле связь души с телом не прерывается и по смерти последнего. Эта связь уже, конечно, не имеет своего прежнего непосредственного характера, но от утраты его своей крепости не теряет. В Синаксаре в субботу мясопустную так говорится о причинах поминовения усопших, установленного святой Церковью в 3-й, 9-й и 40-й дни по смерти: «Третины убо творим, яко в третий день человек вида изменяется. Девятины, яко тогда все растичется здание, храниму сердцу единому. Четыредесятины же, яко и самое сердце тогда погибает. И рождение бо сице происходит: в третий бо день живописуется сердце, в девятый же составляется в плоть, в четыредесятый же в совершенный вид воображается. За сию вину душам память творим».
Изменения происходят с телами, а поминовения творим душам. Почему? Да потому что таинственная связь души и тела не прекращается даже в то время, когда душа пребывает на небе в ожидании Страшного суда, а тело в глубине могилы проходит предназначенный ему от Бога «путь всея земли» (3 Цар. 2: 2). И в день всеобщего воскресения душа найдет свое тело (каким оно тогда будет – это особый вопрос) и соединится с ним, но уже для иного живота и иной совместной жизни, неизменной и бесконечной. Поэтому в ектенье об усопших, как и в ектенье о живых, употребляется слово, передающее связь души со своим телом – ‘живот’.
Слово ‘живот’ в возгласе «Яко Ты еси Воскресение, Живот и покой усопших рабов Твоих…» стоит на своем месте в полном согласии с Евангелием. Бог наш «несть Бог мертвых, но Бог живых» (Мф. 22: 32). Святая Церковь не противопоставляет живых и умерших, не разводит их по разным углам бытия, но соединяет в едином теле, которым она сама и является и глава которого – Христос. И мысль об единстве живых и умерших в этом теле особо подчеркивается в заключительном прошении великой ектеньи на панихиде: «Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов испросивше тем (то есть усопшим) и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим».
Подобный вопрос о «живых» и «умерших» может возникнуть при разборе Пасхального тропаря. Кого следует понимать под «сущими во гробех», которым Господь «живот дарова»? Только ли тех, которые «изшедше из гроб по воскресении Его, внидоша во святый град и явишася мнозем» (Мф. 27: 52)? Конечно их, но много более их под «сущими во гробех» разумеются ныне живущие, ощутившие радость своего из гроба безверия воскресения и «иного жития вечнаго начало». Кстати, в последнем примере мы видим, как слово ‘житие’ в соединении со словом ‘вечный’ приобретает совершенно особый, так сказать, пасхальный вкус и смысл. Этот же пример доказывает и то, что располагать слова ‘жизнь’, ‘живот’ и ‘житие’ по временной шкале таким образом, что, дескать, слово ‘житие’ означает нечто преходяще-бытовое, ‘жизнь’ – возвышенно-вечное, а ‘живот’ занимает промежуточное между ними положение, будет неверно уже потому, что все три этих слова церковнославянский язык соединяет со словом ‘вечный’: «…иного жития вечнаго начало» (тропарь 7-й песни Пасхального канона); «…да будет же ми в живот вечный и безсмертный» (кондак канона ко святому причащению); «…да причастницы жизни вечныя будем» (окончание песни, исполняемой вместо Херувимской на литургии Преждеосвященных даров).
Разница слов ‘жизнь’, ‘живот’ и ‘житие’ вовсе не так очевидна, чтобы ее можно было описать в нескольких предложениях. За каждым из этих слов стоит особый смысл, который в разных контекстах обрастает десятками разных значений, и все их бережно хранит церковнославянский язык, всеми мудро пользуется.
И многое множество других примеров, by heart (англ. – наизусть; буквально – ‘сердцем’), известных церковным людям из богослужебных текстов, можно привести, подтверждающих, что не один ‘живот’ в церковнославянском языке восседает, но три разных слова в нем из молитвы в молитву перетекают.
Каким же из этих слов можно наиболее адекватно передать значение слова ‘живот’, допустим, в прошении «прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим»? Слово ‘житие’ здесь никак не годится, потому что у него своя, довольно узкая сфера применения. Могло бы подойти слово ‘жизнь’, но если заменять им слово ‘живот’, то чем заменить слово ‘жизнь’ там, где оно в церковных текстах стоит изначально, как, например, в молитве Святому Духу? Так ‘жизнью’ и оставить? Но такая замена будет всего-навсего смешением двух различных понятий, которые заключают в себе слова ‘жизнь’ и ‘живот’, в одном слове ‘жизнь’. Что же делать? Cмириться с тем, что наиболее адекватно смысл слова ‘живот’ передает именно слово ‘живот’. И согласиться с тем, что вторгаться в церковнославянский язык с современными русскими словами – значит нарушать его функциональную систему, значит загрязнять экологию церковнославянского языка.
Приспособить церковные тексты к пониманию современного человека – дело нехитрое. Сложнее приспособить понимание современного человека к церковным текстам. Но чем труднее, тем и благодатнее, потому что главное правило духовной жизни «отдай кровь и приими дух» применимо не только к посту и молитве, но и ко всякому совершаемому ради Бога труду, тому же изучению языка. Изучение, осмысление, вникание, вживание в церковный язык – это очень даже благодатный труд. Зачем же с самого порога лишать неофита этого труда и даруемой за него духовной радости? И если подавший чашу холодной воды во имя ученика награждается, то открывший ради Господа словарь церковнославянского языка, чтобы узнать там значение каких-то непонятных слов, надо думать, тоже «не погубит мзды своея» (Мф. 10: 42).
Выше приводилось церковное толкование слова ‘живот’, то есть то, как его понимает священник и церковный ученый протоиерей Григорий Дьяченко. Интересно сравнить, как понимает это слово тот, кто, хотя по роду своей профессии и работает с церковными текстами, но весьма далек от их проблематики и по существу далек от Церкви. Прощу прощения, если я ошибаюсь, хотя, судя по содержанию книги «История русского языка в рассказах», трудно на этот счет ошибиться. Итак, что же говорит о значении слова ‘живот’ доктор филологических наук В.В. Колесов?
«Прежде живот (здесь и далее выделено автором. – свящ. Г.С.) вообще означал только физическое проявление жизни, для передачи других ее сторон имелись иные слова: духовная – жизнь, материальная – житье. До сих пор в прилагательных, образованных от этих трех слов, сохранилась первоначальная дробность значений; сравните: жизненная идея, житейское дело и животная злоба – трудно переставить местами эти прилагательные!» (с. 29).
Мы видим, что «мирское» определение («физическое проявление жизни») нисколько не противоречит «церковному» определению слова ‘живот’ («органическое существование, бытие в союзе тела и души»). И этот смысл, вкладываемый в него двумя столь разными исследователями церковнославянского языка, в свою очередь не противоречит трем значениям слова ‘живот’, в каких оно употреблено в псковской грамоте-завещании, поскольку все три значения (и жизнь, и имущество, и смерть) относятся именно к физической стороне жизни, а не к духовной и не к материальной. «А вот и нет, – возразит внимательный читатель, – второй раз в слове ‘живот’ (“учинила перепись животу своему”) подразумевается материальный достаток». И все же внимательный читатель ошибается, речь и здесь идет о физическом проявлении жизни, а не о материальном. Почему?
Дело в том, что хотя, действительно, под словами «учинила перепись животу своему» раба Божия Иулиания подразумевает свое имущество, но оно вернее и точнее должно быть названо именно ‘животом’, а не ‘житьем’, потому что это ее имущество – одушевленное, живое, это Ульянин скот. А о неодушевленном имуществе, то есть таком, какое бы мы сейчас назвали недвижимым, она говорит особо, как о «селе своем», то есть о поле, пашне.
Вот еще, оказывается, что подразумевалось под словом ‘живот’ – домашняя живность, скотина, в отличие от зверя дикого, неприрученного. И это его значение, видимо, стало причиной того, что начавшееся с XIV века, по слову проф. Колесова, «колебание» в значении слова ‘живот’ привело его, образно говоря, к падению. Начав колебаться в значении, слово ‘живот’ к XXI веку окончательно уронило свое достоинство, чему мы все являемся свидетелями, потому как, слыша это слово, мы первым делом представляем органы пищеварения и ту часть тела, в которой они заключены. Вот почему и весь этот сыр-бор с заменой слов в богослужебных текстах разгорается. Если в прежние века слова ‘жизнь’, ‘живот’ и ‘житие’ стояли друг подле друга почти в равном достоинстве и указывали, упрощенно говоря, на проявления жизни в трех различных сферах: духовной, душевной и телесной, то нынче слово ‘жизнь’ возвысилось до значения, так сказать, «жизни вообще», ‘житие’ стало малоупотребительным (редко, но еще можно услышать в разговорном языке слово ‘житьё’ или родственное ‘прожитьё’), а ‘живот’ резко опустилось.
Нынче некогда счастливый «союз тела и души» в слове ‘живот’ окончательно распался, «душа» покинула его, и потому кажется неуместным в конце ектении, после поминовения Пресвятой Богородицы и всех святых, взять и этот самый живот со всем его содержимым назвать. Но для нашей богослужебной древности это выглядело очень даже благолепно и чинно. Именно в конце ектении, после многих прошений, после призывания Богородицы и всех святых, и о своем животе словечко замолвить, и о своей – знаете, есть такое ласковое слово животинка, которым селяне называют своих коровок и которое еще хранит в себе, в отличие от животного, взаимную любовь души и тела, – и о ней, своей животинке, Христа Бога попросить – это, конечно, было весьма пристойно и умилительно. Под животинкой в последнем случае я разумел не коров, но свой собственный по-коровьи протекаемый живот, недостойный называться жизнью.
Допустим, что все это более или менее понятно, но распавшийся «союз души и тела» объяснениями не восстановишь. Смысловое равновесие души и тела в слове ‘живот’ нарушилось и сместилось в сторону тела, в итоге его общее содержание оказалось приземленным. И потому, чтобы удержать на должном уровне высоту богослужебных текстов, современные метафрасты (греч. – пересказчик, переводчик) вынуждены искать замену сему несправедливо обиженному слову.
Но что происходит, когда мы заменяем «органические» слова словами, не имеющими в себе «кровеносной системы», словами отвлеченными, словами-категориями, то есть ‘живот’ – ‘жизнью’, ‘чрево’ – ‘лоном’ и т.д.? А то и происходит, что наша жизнь становится от этого все более отвлеченной и все более неживой. Отказываясь от старинных слов с «органикой», мы добровольно снижаем «урожайность» языка, так как иссушаем, истощаем его корни, следовательно, истощаем и корни живота своего.
Крестьянские животы
Практика, вскрывающаяся в частных актах, выясняет эту двусмысленность закона. Здесь видим состав и с некоторых сторон самое юридическое значение крестьянских животов. Это — земледельческий инвентарь, деньги, скот, хлеб сеяный и молоченый, «платье всякое и всякий домовый запас». Из порядных записей видим, что крестьянские животы переходили от крестьянина к его сыновьям, жене, дочери в виде наследства, к зятю как бы в приданое, но во всех случаях с согласия или по воле владельца. Нередко вольный холостой человек шел с пустыми руками, только «душою да телом», в дом к помещикову крестьянину «в годы и в животы», женясь на его дочери и обязуясь у тестя жить в одном дворе известное число лет, например 8 или 10, с правом, отжив урочные лета, отделиться и взять у тестя или после него у его сына половину или треть во всем, не только в животе, но и «в хоромах и в земле, в полевой пашне и в огородах». Точно так же женились на крестьянских дочерях и вдовах, идя в их домы к животам их умерших отцов или мужей. Этими животами «владели» крестьяне, на дочерях или вдовах которых женились пришельцы; но женихи брали эти животы вместе с невестами у их господ, к которым они при этом рядились «во крестьяне», становясь их крепостными. Такое совмещение в одном имуществе двух различных обладателей объясняется двойственным происхождением крестьянских животов: они обычно создавались трудом крестьянина с помощью барской ссуды. По Уложению, видели мы, муж беглой крестьянки терял свои животы при выдаче его владельцу своей жены. В порядных записях 1630-х годов встречаем еще более выразительные случаи, не предвиденные Уложением: беглые выдавались по суду их владельцам вместе с женами-крестьянками, на которых они женились в бегах; но имущество, унаследованное этими крестьянками от отцов или первых мужей, удерживали за собой их владельцы, разрешавшие им эти браки. Господа считали себя даже вправе отчуждать животы своих крестьян по договору с третьими лицами: в 1640 г. вольный человек, женясь на вскормленнице крестьянина, порядился в крестьяне к его владельцу по кабальному праву до смерти господина с условием, отжив урочные годы во дворе «тестя своего», взять у него или у его сына половину живота и с женой «отойти прочь на волю», к прямому ущербу и крестьянского двора, и крестьянского общества. Очевидно, крестьянские животы — имущество, в котором различались фактическое владение и право собственности: первое принадлежало крепостному крестьянину, второе — землевладельцу. Это — нечто похожее на рабский пекулий римского права или на отарицу древнейшего права русского; владельческий крестьянин эпохи Уложения по имущественному своему состоянию возвращался в положение своего социального предка, ролейного закупа Русской Правды. Такие животы, или собины, как они еще назывались в XVII в., бывали и у холопов, которые по ним могли вступать в имущественные сделки даже со своими господами: в одной служилой кабале 1596 г. холоп, обязуясь служить господину «по его живот», обязывает и господина после своего живота отпустить его на волю с тем, что он, холоп, «у него живота наживет». Холоп по закону не имел права собственности и мог возложить на своего господина такое обязательство только в расчете на его нравственную порядочность. Очевидно, и Уложение смотрело на животы крепостных крестьян так, как на холопьи: только при таком взгляде оно могло постановить долги дворян и детей боярских в случае их несостоятельности править в их поместьях и вотчинах на их людях, т.е. холопах, и на крестьянах (гл. X). Этим объясняется возможность упоминаемых в Уложении «кабальных долгов» у крепостных крестьян: такой крестьянин мог по своим животам входить в обязательства, и на них могли быть обращаемы взыскания, как и на животы зад верных холопов. Заслуживает внимания, что крестьянский инвентарь является с характером холопьего живота в то самое время, когда в ссудную запись только что стало входить крепостное обязательство: уже в 1627—1628 гг. встречаем явки помещиков, что у них побежали их крестьяне и «снесли живота своего», лошадей и пр., на такую-то сумму. Крепостное право еще не успело установиться как государственный институт, а владельцы, называя инвентарь крестьян их животами, искали их, как сноса, т.е. как своей собственности, покраденной у них беглецами. Снос — термин холопьего языка: это — господское имущество, которое уносил с собой или на себе (платье) беглый холоп. С первых же минут крепостной неволи крестьяне увидели себя прямо тяглыми холопами. Значит, признание крестьянского живота господской собственностью без точно определенного законом юридического участия в ней самого крестьянина было не следствием, а одной из основ крепостной неволи владельческих крестьян: это — норма, в какую отлилась давняя ссудная их задолженность.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
Крестьянские повинности и выкуп земли
Крестьянские повинности и выкуп земли За отводимый надел назначался соответственный оброк или соответственное количество барщинной работы. Высшему наделу по каждой местности соответствовал и высший размер оброка с подушного надела участка. Вот эти нормы оброка,
Крестьянские участки
Крестьянские участки Основой хозяйства для крестьянина служил земельный участок, им обрабатываемый. Излагая юридические отношения крестьян XVI в. к землевладельцам, я говорил, что крестьянин, договариваясь с землевладельцем, брал у него какую-либо долю выти и обжи, редко
Крестьянские движения в XV в.
Крестьянские движения в XV в. Уже в первой половине XV в., особенно со времени гуситских войн в Чехии, немецкие крестьяне, на которых, по словам Ф. Энгельса, «ложилась своей тяжестью вся общественная пирамида: князья, чиновники, дворянство, попы, патриции и бюргеры», стали
Крестьянство и крестьянские движения в XII-XV вв.
Крестьянство и крестьянские движения в XII-XV вв. В XIV в. в королевстве Венгрии заметен рост производительных сил. Ведущей отраслью сельского хозяйства к атому времени окончательно стало земледелие. Показателем его прогресса было появление трехполья. Продолжали
§ 3. Крестьянские промыслы в XVIII в
§ 3. Крестьянские промыслы в XVIII в Издавна крестьяне Нечерноземья, получая мало прибыли от земледелия, свое свободное время (а им были осень, зима и часть весны) употребляли для приработков. Крестьяне изощрялись, «примысливая», т. е. изобретая способы своего более-менее
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ В СРЕДНЕЙ ГЕРМАНИИ
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЙНЫ В СРЕДНЕЙ ГЕРМАНИИ Одновременно с описанными событиями в Южной Франконии и Оденвальде крестьянское и плебейское движение развернулось с большей силой в землях Средней Германии – в Северной Франконии и в Саксонско-Тюрингенском районе. Основными
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАГОВОРЫ Если в XIV в. цехи сломили в ожесточенном бою господство знатных родов и уничтожили привилегии городской аристократии, опиравшиеся на недвижимую собственность, то в XV в. и сельское население восстало против своих господ, крупных
XIV. КРЕСТЬЯНСКИЕ ДУМЫ
XIV. КРЕСТЬЯНСКИЕ ДУМЫ В Таврической губернии ко времени революции безземелья не ощущалось. Здесь преобладал и преобладает середняк, которому плодородная почва дает возможность жить без горя и нужды. Что касается меннонитов[34] и немцев-колонистов, то многие из них живут
ЕВРОПЕИЗАЦИЯ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ
ЕВРОПЕИЗАЦИЯ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ Пока претенденты на чиновничьи должности ожесточенно спорили, перемены Реставрации Мэйдзи продолжались беспрепятственно. Было признано, что от феодальных порядков необходимо отказываться. Поэтому в 1872 г. был отменен запрет на
РЫЦАРСКИЕ ЖИВОТЫ
РЫЦАРСКИЕ ЖИВОТЫ «Песнь о Гильоме» была написана около 1140 г., и за ней последовали другие с участием того же персонажа, вплоть до его «Монашества» (уже упоминавшегося)<870>. Первая поэма, если остановиться на ней, во многом перекликается с «Песнью о Роланде», так как
Крестьянские общественные владения
Крестьянские общественные владения После крестьянской реформы 1861 г. в российских селениях появилось два типа владельцев. Прежние господа владели недвижимым имением, называемым теперь также занадельной землей, т. е. оставшейся после выделения наделов крестьянам. А
Глава 3. Крестьянские праздники
Глава 3. Крестьянские праздники ПРАЗДНИЧНОЕ ВРЕМЯКак лето сменяло зиму, день — ночь, так же неотвратимо в крестьянской жизни будни сменялись праздниками. Праздники были разновеликие, и отмечали их по-разному. Воскресенье после рабочей недели — день не просто свободный, а
Крестьянские беспорядки
Крестьянские беспорядки Дело Фуке, даже если оно и не меняло ситуации в ведении финансов, представлялось современникам событием, положившим конец прошлому. То же можно сказать о сельских волнениях, потрясавших страну в течение первых пятнадцати лет единоличного
КРЕСТЬЯНСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ Одновременно с нарастанием противоречий внутри господствующего класса ширилась и обострялась классовая борьба между крестьянством и феодалами, а также участились выступления горожан.В 1509 г. в близлежащих к югу от Пекина уездах
III. Крестьянские хозяйства при капитализме
III. Крестьянские хозяйства при капитализме Мы отнесли к крестьянским хозяйствам такие группы, в которых, с одной стороны, большинство земледельцев принадлежит к самостоятельным хозяевам, а с другой стороны, число семейных рабочих больше числа наемных. Абсолютное число

